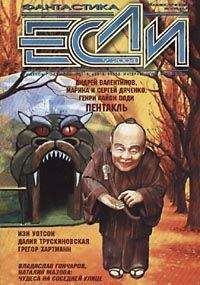Наталия Ломовская - Сестра моя Боль
Потом приехала милиция, и труп увезли. Так и не дознались, кто был этот несчастный.
– Приезжий какой-нибудь, – говорили люди.
Снова пришлось рано вставать, ходить в школу, давиться завтраком – оладьи и какао, бурые расплывчатые пятна на скатерти. Такие же пятна появились у матери на щеках, но она была все такой же красивой, все так же загадочно и равнодушно улыбалась. Потом выпал снег. В холодной прихожей стоял бочонок с квашеной капустой, и в течение дня мать пять-шесть раз подходила к нему, замотав голову бабушкиным шерстяным платком. Она ела капусту, вынимая ее горстями из бочонка, ела и смаргивала подступавшие слезы, а пробегающие мимо кумушки-соседки беззлобно подшучивали над ней: «Соли, Алевтинка, покруче!» В городке теперь к ней относились на диво доброжелательно, словно «положение» сделало ее проще и понятней людям.
В феврале мать родила маленькую, слабую девочку, которой долго не могла подобрать имя. Мать вернулась домой одна, малышка оставалась в больнице.
– Как мы ее будем звать? – допытывался Руслан, косясь в угол дальней темной спаленки, где стояла старая кроватка, еще он сам в ней спал.
– Не знаю. Может быть, Анечкой. Или Катей, – отвечала мать.
– А можно Эльвирой?
Мать удивилась, ее усталые глаза вдруг стали ярче.
– Эльвирой? Почему же Эльвирой? Где ты слышал это имя?
Но это было не важно, не важно. Диковинное имя казалось Руслану памятью о невозможном, счастливом мире, который был рядом, но оказался вдруг потерян.
– Пожалуй, и Эльвирой, – согласилась мать. – А ты будешь ее любить?
– Да, – сказал он.
– Люби ее очень сильно.
Девочка пошла на поправку.
Когда из роддома принесли Эльку, мальчик был сильно простужен и не ходил в школу. Его заставили нацепить дурацкий марлевый намордник и пустили посмотреть на сестренку. Она была очень складненькая, глаза смышленые, и улыбалась, как мать, ямочками на щеках. Пожалуй, ее можно было любить.
Глава 2
Девочка росла на руках у брата и бабушки – мать была странно равнодушна к новорожденной, может быть, потому, что не кормила ее грудью. В кухне появились коробки молочной смеси – щекастый ребенок в кружевном нагрудничке смотрел с коробки бессмысленно-счастливым взором. Еще Элю кормили из бутылочек, за которыми Руслан ездил по утрам на молочную кухню, ездил на велосипеде. Бутылочки весело позвякивали в корзинке, привязанной к багажнику. Порой он сам и кормил сестру, никогда не отказывался. Приятно было держать на руках толстенькую девочку, чувствовать, как старательно она причмокивает. Иногда она начинала сосать медленнее – уставала или задремывала, и тогда нужно было потянуть пузырек к себе, и Элька, опомнившись либо испугавшись, что бутылочку сейчас заберут вовсе, снова принималась причмокивать. Да, а потом малышку нужно было поставить столбиком и погладить по спине, и, когда из нее почти музыкальным раскатом выходил проглоченный воздух, Руслан сам ощущал облегчение.
Понемногу все попечение о малышке легло на него. Мать вышла на работу, а бабушка много болела, но Руслан не роптал на свою участь. Он любил играть с Элей, любил с ней гулять. Очень ловко научился одевать ее, осилил и шнурки на крохотных пинетках, и завязки шапочки. Элька радостно гукала в красной импортной колясочке, била ручонками по погремушкам – такие маленькие ручки у нее были, что удивительно!
По вечерам, придя с работы, мать даже не подходила к девочке – сидела на кухне, слушала радио и пила кофе, добавляя в него по капельке жгучего яда из фигурной бутылки. Она любила макать в кофе тяжелое, маслянистое печенье «курабье», которое Руслан покупал в гастрономе на углу.
Гастроном был облицован понизу синим кафелем, кудрявая мороженщица всегда стояла на углу (зимой она торговала жареными пирожками), дорога в скверик, куда они с Элькой ходили гулять, пролегала как раз мимо. В кронах пирамидальных тополей сидели грачи, и все тополя были в грачиных гнездах. На свежем воздухе Эля быстро засыпала, и тогда Руслан садился на скамейку, сплошь облепленную круглыми бумажками от мороженого и грачиными блямбами. Из-за пазухи он доставал томик собрания «Библиотеки фантастики». Эти книжки в шершавых переплетах, бывшие по тем временам редкостью, давал ему читать одноклассник Димка, у которого тоже была сестра, но который в отличие от Руслана сестренку свою не любил, да что там, – терпеть не мог.
– Плакса, вредина, жадюга, чуть что – бежит матери жаловаться, а сама еще и говорить толком не умеет, только пык да мык! А твоя ничего – не ноет.
Элька никогда не ныла. Она не плакала даже тогда, когда училась ходить и падала, даже когда Руслан, играя с ней, приложил ее затылком о подлокотник дивана. Она не плакала в детской поликлинике, куда ее водил тоже Руслан. Их участковый педиатр, добрая, очень близорукая женщина, встречала детей с искренней приветливостью, угощала «аскорбинками», но порой ей все же приходилось делать Эле укол, и та не плакала, только держалась за руку брата. Его мальчишеская рука с цыпками, с обломанными и не очень чистыми ногтями казалась очень большой по сравнению с Элькиными крохотными пальчиками.
Эля не заревела, даже когда старший брат вывернул ее с санок в сугроб, да не заметил и пробежал сгоряча еще метров двадцать. Тогда Эля просто стояла в снегу по пояс и ждала, когда брат вернется за ней. Она была уверена – он вернется. Он ее не бросит. На него можно положиться. И когда Руслан обернулся, изумленный и растерянный, он прочитал на ее детской мордашке все эти чувства так, будто Эля сама поведала о них брату. Как если бы Элька сказала:
– Ты мой старший брат, самый главный, самый важный и самый лучший человек в мире. Все, что ты делаешь, – прекрасно и неоспоримо, все во благо мне и тебе. Ты всецело принадлежишь мне, как я – тебе, и никто не в силах этого изменить. Пусть только попробуют.
И попробовали.
Гром грянул в тот день, когда классная руководительница Руслана Любовь Ивановна ни с того ни с сего вызвала в школу мать. Так и сказала:
– Обухов, скажи матери, чтобы пришла в школу, мне нужно с ней поговорить. В дневник тебе не пишу, знаю, что ты и так передашь. – И посмотрела значительно.
Любовь Ивановна была еще не старой, полной женщиной. Она всегда носила, меняя, два трикотажных костюма белорусской швейной фабрики, кирпично-красный и зеленый. От нее исходил кислый дрожжевой запашок.
У Руслана был соблазн злоупотребить доверием «класснухи» и ничего матери не передавать, тем более что ему неясно было, зачем все это? Не водилось за ним особых прегрешений. А-а, пусть взрослые сами разбираются, ему некогда ломать голову, он обещал Эльке дочитать «Айболита» и расчесать ее на ночь. Волосы у Эли выросли роскошные, волнистые, темно-русые, и Руслан на-учился заплетать косички, а куда деваться? Матери некогда, а бабушка нещадно дерет ей волосы, но Эля все равно не плачет, а только шипит сквозь зубы, словно котенок.