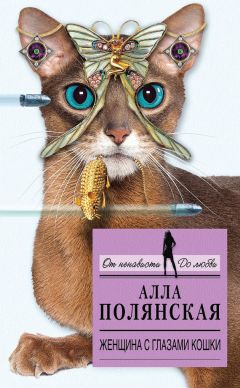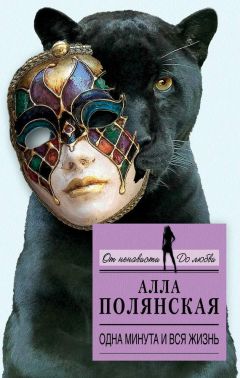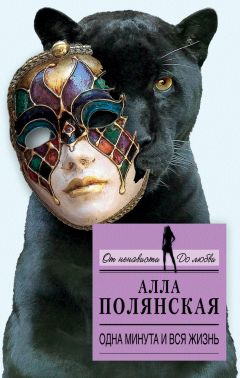Алла Полянская - Женщина с глазами кошки
— Поглядим. А с Куртом что станем делать?
— Думаю, нам надо…
От выстрелов разлетелось окно. Кто-то без устали строчит из автомата, летят щепки и стекло, а мы все уже под столом, и — все безоружны. Хотя у Бартон есть ножи… и мой нож при мне. А узоры в воздухе становятся осязаемыми и видимыми, я слышу бешеный стук сердец нападающих. Но мне надо сначала найти то сердце, которое я собираюсь остановить. Если откачусь к стене, то увижу стрелка…
— Тори, осторожно!
Это Гарольд. Ну чего ему не лежится на месте?
— Оставайся там, Гарольд!
— Нет, Тори!
Но он видит то, чего я не заметила. Кто-то пробрался в дом и стоит у меня за спиной, а я уже не успеваю обернуться. Зато Гарольд успевает вскочить — пуля уже летела, и Гарольд прикрыл меня. Пуля вошла ему прямо в сердце. Боже милосердный, нет! Как же это?
Я вижу молодое лицо — светловолосый парень, высокий и крепкий, с большим пистолетом. Поднимаю на него взгляд — и он отшатывается. Понимает, что я не оставлю его живым, достану, где бы ни спрятался. Я знаю его запах, знаю лицо — волчонок не так осторожен, как старый волк. Собственно, Педро я убила практически случайно — а вот с тобой, красавчик, ничего случайного не будет.
Стрельба прекратилась, и я потеряла из виду идиота мстителя, который пробрался сюда со своей дурацкой стрелялкой, дабы лично всадить в меня пулю — словно снайперская винтовка была бы не по-пацански. И, думаю, Бартон его больше не интересует.
— Гарольд!
А Гарольд мертв. Не будет ни прощального взгляда, ни последних слов — ничего не будет. Это жизнь, а не бразильский сериал, и случилось так, как обычно и случается в жизни — человек просто умирает, и все. Останется только моя память, и я запомню его таким, каким он был когда-то — высоким, красивым, пылким, опасным и бесконечно нежным. Но запомню и таким, каким встретила вчера — немного уставшим, властным, как старый лев, и любящим. Он любил меня все эти годы и взял себе мою смерть — вот почему у меня так непоправимо болит душа.
— Гарольд…
Я хочу, чтобы ты знал: я все помнила. И наши поцелуи на холодном Бруклинском мосту, и нашу первую ночь — здесь, в этом доме, и все другие ночи, когда ты с ума сходил от любви, и… Да, помнила. Но что теперь толковать? Я должна была сказать тебе эти слова полчаса назад, когда мы с тобой стояли у окна. Но не сказала. А продолжала наказывать тебя, потому что когда-то ты причинил мне боль. Теперь уж ничего не исправишь, и я просто сижу рядом, понимая, что все снова пошло прахом, мир рухнул, и жизнь начнет отрастать иначе. Только в ней не будет Гарольда. Уже совсем не будет.
Кто-то садится рядом и что-то говорит. А, Бартон… Я не слушаю ее — не хочу слушать. Я умею вот так — не слышать сказанного. И меньше всего хочу сейчас видеть и слышать Керстин Бартон.
— Тори!
Это Эд. Он поднимает меня с пола и несет куда-то, я вижу каких-то людей, которые наполнили мой дом. Луис ведет тетю Розу, испуганную и заплаканную, а я отчего-то совсем ничего не слышу. Словно смотрю немое кино. Весь мир превратился в немое кино, только мне больно его смотреть. И в вертолет мы все влезли абсолютно зря.
14
Комната большая, светлая, залита солнцем. Белые стены, белый потолок, белая мебель, белые занавески, белое шелковое белье — моя рука кажется совсем черной на фоне этой белизны. С белым был бы здесь явный перебор, если бы не большая золотистая ваза на полу с какими-то желтыми цветами. И если бы не он. Лежит около подушки и смотрит на меня глазами цвета меди с черными бездонными зрачками. Шелковистые черные усики, даже на вид бархатная шерсть, милый, слегка приплюснутый носик… Никогда не видела британских котов черного цвета.
Я не знаю, где нахожусь и как сюда попала. За окном океан, и мне бы надо встать и пойти посмотреть, куда я снова влипла, но мое тело отчего-то как ватное, а перед глазами ползут черные пятна.
— Ну, чего молчишь? Говори, что за дворец такой?
Британец щурится с высокомерным видом, потом поднимается и потягивается, выгнув спинку. Моя рука сама тянется погладить его, а он совершенно не против. Ну все, хорошего понемножку…
Я буквально сползаю с кровати. Меня шатает в разные стороны, кружится голова, и хочется пить, а графин с водой стоит на столике у двери. Я, конечно, доберусь до него — если придержусь за спинку кровати, потом за стенку. Но графин такой тяжелый, что я едва не плачу от отчаяния: не могу напиться, потому что нет сил налить себе воды! Да что ж такое, черт подери!
Я осторожно открываю дверь и выглядываю в коридор. Сзади раздается тяжелый мягкий звук — это кот спрыгнул на пол. Коридор тоже белый. Мне никогда не нравилась мода на белые стены, но сейчас их цвет тревожит меня меньше всего: я в незнакомом доме, в чужой рубашке и, похоже, снова влипла в неприятности. Коридор длинный, но вот есть кресло около одной из дверей, и я могу отдохнуть.
Что-то тяжелое и теплое прыгает мне на колени — а, это ты, черненький? Боже ж мой, а где Эд и Луис? И тетя Роза? И Гарольд?
Воспоминания враз вымели из моей головы сонную тьму, а в груди проснулась боль. Гарольд знал, что делал. Понял, что пуля летит в цель, — и согласился умереть вместо меня. Почему? Потому что любил? А я способна на такое? Не знаю. Возможно, до той минуты и он тоже не знал.
Кот возится у меня на коленях, сворачивается клубком. Так уютно умеют укладываться только кошки, и больше никто на свете: уляжется на колени теплый мягкий зверек, заурчит, и чувствуешь себя, как дома.
Последнее, что помню, — Эд несет меня к вертолету. Теперь — этот дом.
— Она проспит еще несколько часов, — звучит невдалеке откуда-то голос, который я знаю. — Просто нервный срыв. Похоже, мисс Величко уже много лет живет в постоянном стрессе. Когда ей удавалось в последний раз нормально отдыхать?
— Не знаю… Наверное, еще в детстве, до приезда в Штаты…
У тети Розы такой виноватый тон. Кто смеет делать ее несчастной?
— Ну так чего же вы хотели?
— Уолтер, но нам нужно…
— Керстин, я все понимаю, но человеческий организм особая система, все люди устроены одинаково, никто не сделан из железа. Просто последнее перышко сломало спину верблюда, как говорится в Писании. Все наладится со временем.
— Сколько?
— Месяц, может, чуть больше. Она истощена до крайности, и точнее вам даже сам Господь не скажет. Нужно время и хорошее питание. Никаких стрессов и побольше сна.
— Значит, допрашивать ее нельзя? — вплетается в разговор другой голос, мужской.
— Допроса третьей степени она не выдержит.
— Не паясничай, Уолтер!
— У меня есть преимущество: я врач. Все вы когда-нибудь окажетесь в моих руках. Если же хотите знать мое мнение на сей счет, извольте: эту женщину вообще не стоит допрашивать. Или она сама скажет то, что вы хотите знать, или не скажет ничего.