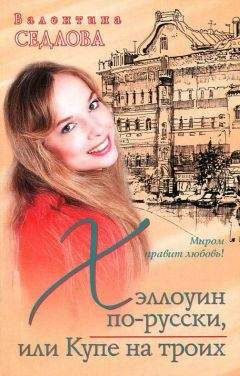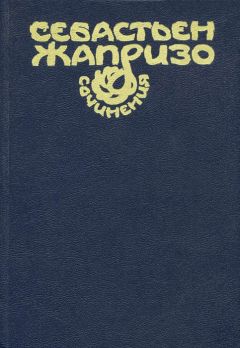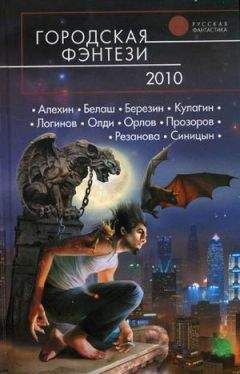Татьяна Исмайлова - Три дня на расплату
— Я тебя сейчас по телевизору видел, — Илья присел на край тахты. — Очень даже ничего смотришься. Грамотно ты разложила милицейскую пресс-конференцию. Шурик так и хотел: акценты все на месте. Им сейчас закрыть дело Шерсткова — как самим себе в лицо плюнуть. Против начальства не попрешь, но и молчать в тряпочку профессионалам стыдно. Жариков даже рапорт хотел подать об отставке. Ну, теперь, может, какая-никакая волна пойдет, вряд ли под шумок дело закроют. Да и ты ведь не дашь, да?
— Илюша…
В горле пересохло, даже язык стал шершавым и двигался с трудом.
— Илюша…
Она села рядом на тахту, обхватила его руками, уткнулась носом в шею. Илья очень бережно снял ее ладони со своих плеч, не отпуская их, заглянул в лицо:
— Скажешь, что скучала?
Ольга, шмыгнув носом, кивнула. Хотелось плакать по-бабьи — в голос: он не верил ей!
Илья погладил ее, как маленькую девочку, по голове, провел пальцем по бровям, носу, губам. Очень осторожно, чуть прикасаясь, дотронулся своими губами до ее дрожащего подбородка. Голова ее утопала в его большой ладони, глаза были так близко — серьезные, пристальные, строгие.
«Если сейчас встанет и уйдет — умру!» — подумала Ольга.
— Если сейчас уйдешь — умру! — заставила сказать себя. Не так уж и трудно! Она улыбнулась, вытерла ладонью слезы: пусть оставит ее одну, пусть, но зато она сделала первый шаг, пробила стенку, которая мешала им понимать друг друга!
— Я тебя, Илюша, люблю, я очень по тебе скучала, мне так тебя не хватало, я даже не представляю, как могла все это время не видеть, не слышать, не быть с тобой!
Илья тихонько отстранил ее, поднялся с тахты, подошел к окну.
«Только бы не развернулся сейчас и не ушел!» — молила Ольга.
— Но ведь не видела, не слышала, не была — сколько, месяца три прошло?
— Четыре, — прошептала она.
— Да, четыре.
Он повернулся. Глаза его казались больными.
— Я тебя, Оля, тоже люблю. Мне без тебя трудно. Все эти четыре месяца, каждый день — трудно. Как заноза в сердце ты у меня. Думал, вытащу — и забуду. Не получается.
Она поднялась, подошла к нему.
— Зачем же забывать, Илья?
— А затем, радость моя, что нельзя так обращаться друг с другом. Тихо-тихо, — остановил он ее движение к нему. — Ты, как оказалось, Олюшка, можешь быть чужой. И, что паршиво, в тот момент, когда должна быть очень близко, рядом.
— Если ты имеешь в виду тот последний вечер, когда в стельку был пьян, то уж прости меня, тоже был не на высоте. И ты прекрасно знаешь мое отношение к этому делу, я просто физически не переношу пьяных. В чем я виновата? Что не присела рядом, не выпила с тобой оставшуюся бутылку? Ты выставил меня за дверь — и исчез, пропал, уехал, забыл обо мне. Ни звонка, ни письмеца, ни привета! За что ты со мной так?
Ольга вспомнила давний телевизионный сюжет о театральной премьере, о молоденьких актрисах в объятиях Коновалова. Ревность, больно уколовшая тогда, снова накатила гневной волной.
— Я так понимаю, тебе и без меня живется неплохо, раз ни разу не вспомнил обо мне. Ну и живи, как знаешь! Ну и оставь меня! И нечего здесь играть в добреньких дядюшек, в заботливого дружочка! Давай, шагай отсюда, мне еще работать надо!
Она села в кресло около стола, деловито поправила настольную лампу, собрала стопочкой бумажные листы, уставилась на них невидящим взглядом, шумно вздохнула, пытаясь взять себя в руки, — и разрыдалась, зажав лицо в ладонях.
Коновалов поднял ее с кресла, как пушинку. Она уткнулась ему в шею — никуда он от нее не денется! Пусть с силой отдерет ее от себя — не получится!
— Ты, Коновалов, бессердечный. И безжалостный! Но если ты меня бросишь… Илюша, не бросай меня!
И Коновалов не бросил. Он бережно опустил ее на тахту — все последующее, что случилось меж ними, было столь же бережным, нежным, трепетным, пока учащенное дыхание не окунуло обоих в нарастающую волну напряжения, и эта волна, ударив и оглушив, отозвалась тягучей звенящей тяжестью в их телах, которые уже не могли не быть вместе.
Ольга откатилась на край тахты, провела ладонью по груди — хоть снова в душ. Но встать не было никаких сил. Краем простыни она вытерла лоб, щеки, плечи, потом опрокинулась на спину, раскинула руки в стороны. Легко вздохнулось: «И как я, Коновалов, без тебя была все это время — даже и не знаю!» Илья лежал на спине, прикрыв глаза.
Дважды перекатившись по тахте — такая была широкая, — она оказалась под боком Коновалова, уткнулась ему в подмышку. Он молчал, поглаживая ее по голове.
— Скажи, что любишь! — Ольга смотрела ему в лицо близко-близко.
— Люблю. — Глаза он так и не открыл.
— Еще скажи!
— Люблю.
— Очень?
— Очень!
— Не разлюбишь?
— Никогда.
— И я тебя люблю. Очень.
Она обвила его ногами, распласталась на нем липкой собственницей, затихла, дыша ровненько и спокойно. Но как только его мягкая ладонь прошлась по спине, замерла на изгибе бедра, коснулась ноги — словно кто-то перекрыл кислород, и, чтобы тяжелое медленное дыхание не разорвало легкие, она впилась в его рот и застонала — сладкая нега снова с головы до ног окутала ее. Все остальное было бесконтрольно, неподвластно — словно мчалось с нарастающей скоростью с огромной высоты далеко-далеко вниз…
Они курили лежа, поставив пепельницу между собой. Илья рассказывал, как четыре месяца назад обнаружил на шее небольшой бугорок — и испугался так, что, оцепенев, впервые, кажется, понял, что означает выражение «душа ушла в пятки». От лимфогрануломатоза шесть лет назад умер его младший брат Юра. В 45 лет могучий мужик превратился в тощий мешок с костями — только глаза горели на изможденном лице. Куда только не возил его Илья, какие только профессора не консультировали в Москве, на Каширке, в Питере, в Военно-медицинской академии — болезнь смертельным клещом вцепилась в брата и высосала из него все силы, все жизненные соки. Через полгода это был живой скелет: жизнь едва теплилась в нем, еще очень недолго. А началось все с небольшой шишечки на шее.
Вот тогда-то Коновалов и напился. И чем больше пил, тем трезвее осознавал: беда поймала его на самом пике счастья — встретив Ольгу, он наконец уверился, что именно она и никто другой — его «половинка». Пусть младше на двадцать лет, пусть даже не так любит его, как он, — но только с ней он был сильным и неутомимым, только она вселяла в него непередаваемое чувство легкости и полета, полной растворимости в безграничном ощущении счастья и блаженства. И что теперь — полгода, и такой же страшный, как у Юры, конец?!
А у Ольги, когда она застала его таким — опустошенным от нахлынувшей тоски, глаза были чужие, злые, ненавидящие.