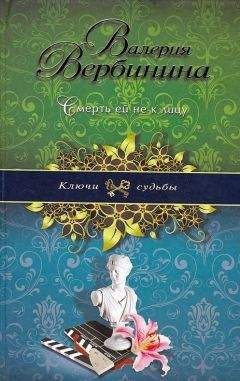Анна Малышева - Обратный отсчет
Ее глаза горели лихорадочным блеском, губы подрагивали – она даже говорила прерывисто, нечетко. Диму снова обдал неприятный скользкий холодок, на этот раз он знал, что тому причиной. ТАКОЙ Марфа ему категорически не нравилась.
– Давай обсудим это, когда Люда вернется, – сухо сказал он, открывая дверь ванной. – Куда ты? За мной? Я собираюсь принять душ и лечь спать.
– Да, конечно, – засуетилась она, придерживая дверь. – Но скажи – ты не против, чтобы я участвовала? Ты лично – не против?
– Все это затеяла Люда, пусть она и решает, будешь ты с нами или нет. Ты вообще собиралась открыть ей глаза на нашу измену. Может, она вообще нас обоих попросит…
– Только не тебя, я же говорю! Владелец участка – ты! Пусть только попробует возражать – сама узнает, где выход!
Он хлопнул дверью и заперся. Пустил в ванну воду, присел на бортик, взглянул на себя в зеркало. Свое осунувшееся лицо с выступившей за стуки щетиной его не порадовало. Он отвел взгляд: «Марфа предлагает настоящее свинство, а я слушаю. Конечно, я так не поступлю, но у меня нет сил ее оборвать. Потому что я с ней сплю? Что я за тряпка! И при чем тут она? Что за авантюра? У нее работа, она, в конце концов, начальница и не может бросить фирму! А ее Эрик? Хоть бы вспомнила о нем!» Он как будто наяву услышал спокойный, чуть насмешливый голос Люды, рассказывавшей о своей лучшей подруге. «Остановить Марфу так же невозможно, как остановить мчащийся поезд, поставив на рельсы ногу. Она дьявольски честолюбива. В выпускном классе, когда из-за одной вредной училки ей не досталась золотая медаль, Марфа даже слегла в больницу. Она создана, чтобы побеждать. Когда она не побеждает – начинает медленно умирать.»
«Но Люда ничего не говорила о ее жадности. Какая жадность – она бросила шикарную квартиру, не сдала ее, а могла бы грести деньги, не шевельнув и пальцем! Пустила нас жить бесплатно… И сейчас готова дать денег. Знает, что рискует, и прямо навязывает их. Может, тут тоже играет роль честолюбие? Найти клад времен Грозного – вот что ее язвит! Ведь есть порода людей, которые только и ищут, где бы им победить. Этакие спортсмены, чемпионы… Если она из таких, с ней надо быть поосторожней – загонит, а то и затопчет!»
Ванна быстро набралась, он бросил в воду горсть ароматической соли и, раздевшись, погрузился по самый подбородок. Мысли, как всегда в горячей воде, потекли медленнее и спокойней. «В конце концов, я не сказал ни «да», ни «нет». Я с ней сплю, живу в ее квартире – я не могу ей грубить! А перед Людой мы оба виноваты одинаково!» И нырнул с головой, чтобы отогнать внезапное и четкое видение – грустное бледное лицо бывшей подруги, ее укоризненный и пристальный взгляд, который как будто нашел его откуда-то издалека и заглянул прямо в беспокойную, мятущуюся душу.
Даша стоит на цыпочках у крохотного, высоко пробитого в стене окошка, ловя пересохшими губами свежий рассветный воздух. Эту ночь девушка снова не ложилась – ко сну не тянуло, как не тянуло и к еде. Со времени своего заточения с матерью в монастырь Даша ела, пересиливая себя, только чтобы не свалиться и не оставить умирающую мать без присмотра. Их привезли сюда связанных, на простой открытой телеге, где не было даже гнилой соломы для подстилки. Измученная пытками мать страшно страдала, когда телегу подбрасывало на ухабах – и так всю бесконечную, ужасную дорогу от Москвы до Хотькова. Даша уложила тогда ее голову к себе на колени, старалась прикрыть ее от палящего солнца своей разорванной одеждой, осмелилась попросить у стрельцов воды, но ее назвали сукой и сукиной дочерью, а воды не дали. Она боялась, что мать приедет в монастырь уже мертвой, но та все жила. «Себе на страдание! – как прошептала она, очнувшись и увидев себя в низкой келье, на дощатой голой лежанке. – Молись, Даша, молись!»
Она и молится каждую минуту, которую удается урвать от сидения возле матери. Как только та забывается горячечным, бредовым полусном, Даша бросается ничком на ледяной каменный пол и, раскинув руки крестом, слезно молит Богородицу о матушкином исцелении. Слезы тогда льются ручьем – все слезы, которые она не смеет выплакать перед умирающей матерью. Изредка к ним в келью заходит старуха в черном клобуке, пристально и без всякого выражения оглядывает Дашу, бросает взгляд на стонущую больную и молча жует беззубыми деснами. Старуха молчалива, она лишь знаками манит Дашу в трапезную, где той дают деревянную чашку пустых щей или каши для матери – той, как тяжелобольной, разрешается есть в келье. Но еда возвращается почти нетронутой. Лицо старой монахини день ото дня становится все тверже и суровее, и она все пристальнее поглядывает на Дашу. Та боится ее, как боится здесь всех. У матери, напротив, порой являются странные надежды на облегчение их судьбы. Она еле слышно поверяет их на ухо склонившейся дочери. Ее дыхание стало горячим, болезненным и пахнет тяжело – у матери, как сказала другая монахиня, бывшая тут за лекарку, от пыток «загнила кровь».
Даша уже второй день не решается взглянуть на страшную рану между ног матери и обмывает ее, стараясь не видеть грубых кровавых борозд от веревки, на которой несколько раз «прокатили» казначейшу Фуникову стрельцы царя Ивана. Она сама видела только самый первый раз, да зато весь – от стены дома до стены кладовой. Коротка дорога, кажется, но ох какой долгой она была для несчастной женщины и для Даши! Девушка видела, как туго натянутая веревка, на которую усадили ее нагую мать, окрашивается ее кровью – все гуще, все темнее. Слышала ужасный, нечеловеческий вопль матери – не то рычание, не то звериный вой, смех и ругань стрельцов, тащивших ее вперед за руки, оттягивающих ей вниз ноги – чтобы плотнее сидела на веревке… Потом Даша, которую стрельцы держали сзади за локти, и сама стала кричать – бессмысленно и дико, и в голове у нее все помутилось – будто от угара. Что было дальше, она не помнит. Очнулась в телеге, которая везла их в монастырь.
– Видишь, Дашенька, – хрипло шепчет ей мать, – царь все же милостив! Посуди, что он мог с нами поделать, с сиротами? Кто бы заступился? Брата Афанасия, слышно, тоже казнили… Из-за него и немилость несем! Измена, говорят – а нам откуда про то знать?
Она закусывает губы и стонет, отворачиваясь к стене. Даша чуть отодвигается, ее мутит от запаха гниющего заживо тела. Кто бы узнал в этом полутрупе казначейшу Фуникову – моложавую, красивую, бойкую женщину, языкастую щеголиху, пускавшую всей Москве пыль в глаза своими нарядами. Ох и пошутил над ее страстью к роскошеству царь Иван! Нарядил он ее в грубую рясу, украсил кровавыми язвами, постлал ей дощатую постель! Однако Фуникова, перейдя уже предел земных страданий, не жаловалась и даже видела в своей ссылке тень надежды.

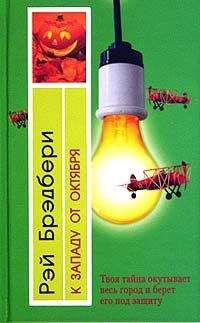

![Анна Чарова - Магия страсти [litres]](/uploads/posts/books/1691/1691.jpg)