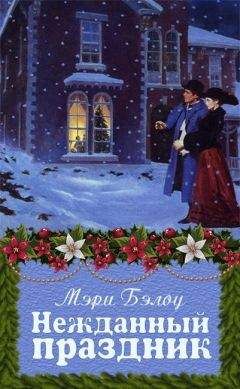Эдна Барресс - Под рябиной
— Я поеду за помощью, — Марион пятилась по тропинке к выходу. — Надо вызвать «скорую помощь».
Необходимо прекратить ее панику, вся эта суета ни к чему.
— Вы не знаете номер телефона, — крикнула я, но она уже дергала дверцу машины.
— Не оставляйте меня, Марион, — начала я, и страх охватил меня, но машина уже отъезжала от бордюра и исчезла в белеющем пространстве.
Захлопнув дверь, я вернулась внутрь, чувствуя себя неуверенно. Я совсем не ожидала, что Марион так разволнуется. Мне хотелось разложить все по полочкам. Как и раньше, я ничего уже не могла поделать. Она позвонит в «скорую», и та приедет. Врачи будут рассержены тем, что мы позвонили не в то подразделение и еще больше рассердятся из-за ложной тревоги. Боль в боку прошла. Я просто чувствовала тяжесть, небольшую тошноту, и ныла лодыжка.
Надо быть готовой в любой момент, собрать письма. Марион или «скорая», возможно, будут здесь приблизительно минут через десять.
Я вновь с трудом поднялась наверх. Бросила взгляд на письма. Мне так хотелось вернуться к их чтению, но надо быть наготове. Я села поудобней у окна, глядя на маленький, тусклый огонек. В тот момент, когда я услышу звук подъезжающей машины, выключу и вытащу штепсель из розетки. Оставлю плитку здесь, нам она не потребуется.
Я выглянула в сад. Слой снега в дюйм толщиной тихо накрыл кусты и деревья. Снег приглушает звук, ведь так? Но мне не стоит бросаться к двери еще раз, если первое, что услышу, — это стук в дверь.
Мои мысли перелетели к Рикки. Сейчас он уже должен быть у бабушки во Франции. По крайней мере, хоть погода там лучше. Надеюсь, с бабушкой не случится ничего плохого. Сегодня вечером Рикки позвонит, и все станет известно.
Я завернулась покрепче в пальто, а пальцы сами потянулись к письмам. По крайней мере, хоть свет снежной белизны оттягивал приближение сумерек.
Вот еще письмо от «Б.» — я до сих пор не знаю имени этого влюбленного художника. Мы все в том же времени — глаза пробежали по строчкам, пропуская ссылку на то, что у него есть опасность попасть в больницу. Я искала упоминание о Рикки. Да, вот здесь — повествование захватило меня.
«Я знаю, ты не примешь мой совет относительно мальчика. У тебя всегда была эта сентиментальная идея о ребенке, играющем в саду. Но мы уже договорились о Фионе, она до сих пор была моей гордостью и не подводила меня».
Дочь куда-то отослали, может, за границу. Бедная тетя Эмма, каким же все-таки он был подлецом!
«Не мечтай, Эмми. Этот заика с полуоткрытым ртом кажется совершенно слабоумным. Здоровые дети, как правило, быстро оправляются от потрясений».
Кипящая злость поднималась во мне, перемежаясь с жалостью к тете Эмме, пытающейся, явно в одиночку, справиться с проблемой своей дочери и с мальчиком в состоянии шока, с ребенком, который нуждался в любви и надежности. Должно быть, это был очень странный дом. Бедный Рикки, искавший тепла, а нашедший лишь обезумевшую от горя шестидесятилетнюю тетку и дом в тисках кризиса его же собственного несчастья. Жила ли тогда здесь Фиона? Как много знали Марион и Стивен? Мне необходимо поговорить с Марион. Почему она ничего не рассказывала?
Там были еще письма. В них я могла почувствовать возрастающее отчаяние тети Эммы, представить те письма, которые она писала в ответ — могу поспорить, что он не перевязывал их голубой лентой.
Я потянула последний слой материи и вытряхнула последний пакет в нетерпении дочитать историю, только в пол-уха прислушиваясь к звуку мотора или шагам.
Я внимательно рассматривала письма у себя в руке. Нет — одно письмо! Всего лишь одно письмо, перевязанное, да-да, черной лентой. Я поднесла его к тусклому свету оголенной электрической лампочки, висящей в самом центре комнаты.
«Мой любимый Бобби». Я смотрела на тонкий, витиеватый почерк. Какое-то время не могла понять, а потом до меня дошло: оно написано рукой тети Эммы, это — неотправленное письмо. И, конечно же, черная лента: прежде чем она смогла отправить его, должно быть, подоспела новость! Бедная тетя Эмма. Так значит, его звали Бобби. Бобби — Фиона. Шотландская ниточка. Еще один шаг вперед. «Пожалуйста, не приезжайте хоть еще чуть-чуть», — прошептала я в тишину.
«Жаль, что я не могу к тебе приехать. Молюсь за твое выздоровление. Хорошо ли заботятся о тебе в больнице? Я рада, что выставка имела такой успех. Мне не хочется беспокоить тебя, но необходимо поговорить. Фиона в плохом состоянии. У нее странная мысль, что с ребенком случится беда. Вчера приезжали Марион и Стивен. Бобби, они обращаются со мной, будто я — глупая, хотят взять всю инициативу на себя, а я не хочу. Да, я надежно спрятала ключи от сейфа, как ты советовал. А сейчас я должна вывести мальчика на прогулку. Весна стоит чрезвычайно холодная. Сегодня вечером приедет Фиона, но ей нельзя рожать ребенка здесь, ведь нет врача…»
Письмо резко оборвалось и вновь продолжалось в самом низу страницы. Эти прогулки по набережной, обрывочные воспоминания Рикки о холодных ветрах и о том, как высокая седая дама тащила его за собой. Должно быть, она уже жила уединенно и была странной. Не удивительно. Но почему Рикки ничего не помнит ни о Стивене и Марион, ни о беременной дочери, Фионе? Как случилось, что из его памяти все это исчезло?
Письмо становилось все труднее для чтения, ясные и понятные предложения прерывались неразборчивыми каракулями, казалось, что наблюдаешь разложение мозга:
«За Фионой приехала «скорая». Она в плохом состоянии. Было много крови». А затем: «Где ты, Бобби? Мы потеряли ее, Бобби, Фиона умерла! Мы сказали, что ребенок родился мертвым, но это не так, Бобби. Думают, что ее доктор приехал и забрал дитя, но никто не приезжал».
Больше на этой странице ничего не было. Но должно же быть продолжение! Что же случилось с ребенком? Я порылась в бумагах, голова была занята только той историей. Внезапно нашелся ясный кусочек, почерк разборчивее, строчки более прямые, слова без эмоций.
«Я написала еще одно письмо, Бобби, и отнесла его сегодня в банк. Марион хотела, чтобы мальчика отослали. Он их совершенно не интересует, но они боятся, что я сделаю его своим наследником. Что я и собираюсь сделать. Он вовсе не умственно отсталый. Он вырастет, женится, у него будет ребенок. И здесь будет ребенок, Бобби, однажды он будет здесь. Я оставлю ему «Райский уголок» и твои картины. Но я не так глупа, хотя ты все время так думал. Это письмо он вскроет в день своего двадцатидевятилетия. Мне было двадцать девять, когда мы встретились, Бобби. Это уже зрелый возраст, не думаешь ли ты? И если он женится, и у него будет ребенок к этой дате, то все достанется ему, в ином случае они получат все. Я сказала об этом Марион и Стивену. Они злятся, но сделать уже ничего не могут. Я больше не люблю их, Бобби. Знаю, что они помогли мне в ту ночь, но это была наша внучка, Бобби, и я бы вырастила ее — говорят, такие младенцы никогда не взрослеют, — но Марион и Стивен сказали, я не в состоянии сделать это. Ты доволен, что я написала это письмо, Бобби? Тебе бы понравилось, ты ведь всегда недолюбливал эту пару».