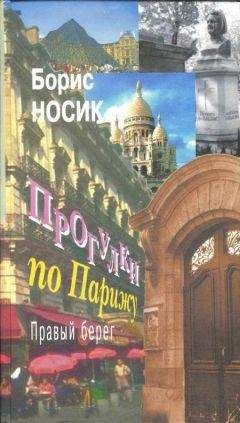Мэри Брэддон - Победа Элинор
Горячка продолжалась несколько дней и ночей, но при всякой перемене доктор утверждал, что организм Элинор Вэн выдержит болезнь сильнее этой.
— Я рад, что вы сказали ей, — говорил он в одно утро синьоре: меньше осталось рассказывать ей, когда она начнет поправляться.
Однако рассказать осталось более.
Мало-помалу горячка прошла, красные пятна исчезли с впалых щек больной, неестественный блеск серых глаз потухал, мало-помалу разум прояснялся, бред становился реже.
Но когда вернулось полное сознание, настали страшные порывы горести — горести сильной и пылкой, соразмерно с впечатлительной пылкостью характера Элинор. Это было ее первое горе, и она не могла спокойно перенести его. Потоки слез орошали ее изголовье каждую ночь, она не хотела принимать утешений, она отталкивала терпеливую синьору, она не хотела слушать бедного Ричарда, который приходил иногда посидеть возле нее и старался всеми силами развлечь ее от горя. Она возмущалась против всех попыток к утешению.
— Чем был мой отец для вас? — кричала она с пылкостью, — Вы можете забыть его, а для меня он был все!
Но не в характере Элинор было оставаться неблагодарною к нежности и состраданию тех, кто имел с ней терпение в этот мрачный час ее юной жизни.
— Как вы добры ко мне! — кричала она иногда, — Как дурно с моей стороны так мало думать о вашей доброте! Но вы не знаете, как я любила моего отца. Вы не знаете — вы не знаете. Я хотела трудиться для него, и мы вели бы вместе такую счастливую жизнь.
Она поправлялась, несмотря на свое горе, о котором она не переставала думать ни днем ни ночью, и после своей болезни она встала, как прелестный цветок, смятый бурей.
Отпуск Ричарда Торнтона кончался через несколько дней, но лондонский театр «Феникс» закрывался в жаркие летние месяцы и, следовательно, Ричард сравнительно был свободен. Он оставался в Париже с теткой, они оба имели одну цель, которой хотели достигнуть со всевозможными пожертвованиями. Слава Богу, на свете всегда есть добрые самаритяне, которые свернут со своего жизненного пути, когда какой-нибудь безутешный и огорченный путник нуждается в их помощи и нежности.
Парижская атмосфера становилась прохладнее в первых числах сентября: слабый, но освежительный ветерок начинал прогонять белый туман летнего жара на бульварах, когда Элинор Вэн могла уже сидеть в маленькой гос-тииой над лавкой мясника и пить чай по-английски со своими обоими друзьями.
Она была уже почти совсем здорова, и Ричард с синьорой начали думать о возвращении домой, но прежде отъезда из Парижа они должны были рассказать Элинор кое-что: то, что она должна была узнать раньше или позже, то, что, может быть, ей лучше было узнать сейчас.
Но они ждали, думая, не задаст ли она какой-нибудь вопрос, который подал бы повод рассказать ей все.
В этот сентябрьский день она сидела у открытого окна и, казалась, прелестной и девственной в широкой белой кисейной блузе, ее длинные золотистые локоны падали на плечи. Она молчала довольно долго, оба ее собеседника украдкой смотрели на нее, примечая каждую перемену в ее физиономии. Чашка с чаем стояла нетронутой на столике возле Элинор, а она сидела, сложив руки на коленях.
Наконец она заговорила и задала тот самый вопрос, который неизбежно должен был заставить ее друзей рассказать ей все.
— Вы никогда не рассказывали мне, как умер папа, — сказала ома — Я знаю, что его смерть была скоропостижна.
Элинор Вэн говорила очень спокойно. Она никогда еще не произносила имя умершего отца, выказывая так мало внешних признаков волнения. Руки, сложенные на коленях, слегка затрепетали, лицо, устремленное на синьору и Ричарда Торнтона, имело выражение пристального внимания.
— Пана умер скоропостижно? — повторила она.
— Да, моя милая, очень скоропостижно.
— Я так и думала. Но зачем его не принесли домой? Зачем я не могла видеть…
Она вдруг остановилась и отвернулась к открытому окну. Теперь она сильно дрожала с головы до ног.
Оба ее собеседника молчали. Страшное известие, которое еще не было сообщено, должно было быть рассказано раньше или позже, но кто станет рассказывать это девушке с таким впечатлительным характером, с таким нервным темпераментом?
Синьора уныло пожала плечами и посмотрела на племянника. Торнтон рисовал все утро в маленькой гостиной. Он старался заинтересовать Элинор Вэн декорациями, какие он приготовлял для Рауля. Он объяснил ей западню в стсне комнаты «Отравителя». Дик думал, что эта западня могла развлечь каждого от горя, но от бледной улыбки, с какою Элинор смотрела на его работу, заболело сердце живописца. Ричард вздохнул, отвечая на взгляд тетки. Этот бедный, одинокий пятнадцатилетний ребенок мог, пожалуй, сойти с ума от горести по расточительному отцу.
Элинор Вэн вдруг обернулась к ним, между тем как они сидели молча и со смущением, спрашивая себя, что они должны ей сказать прежде всего.
— Отец мой сам убил себя! — сказала она странно спокойным голосом.
Синьора вздрогнула и вдруг приподнялась, как будто хотела броситься к Элинор. Ричард очень побледнел, но смотрел на вещи, разбросанные на столе, нервно перебирая руками краски и кисти.
— Да, — закричала Элинор Вэн. — Вы обманывали меня с начала до конца. Вы сказали мне прежде, что он умер, но когда не могли уже долее скрывать от меня мое несчастье, вы сказали мне только половину правды, вы рассказали мне только половину жестокой правды. И даже теперь, когда я страдала так много, что, кажется, никакое большее страдание не может меня тронуть, вы еще обманываете меня, вы еще старались скрыть от меня правду. Отец мой расстался со мною здоровый и веселый. Не шутите со мной, синьора, я уже не дитя, я уже не глупенькая пансионерка, которую вы можете обманывать как хотите. Я женщина и хочу знать все. Отец мой сам убил себя!
Она встала в своем волнении, но уцепилась одной рукой за спинку кресла, как бы чувствуя себя слишком слабою для того, чтобы стоять без этой подпоры.
Синьора подошла к ней, обняла рукою тонкий, трепещущий стан, но Элинор не обратила никакого внимания на эту материнскую ласку.
— Скажите мне правду, — запальчиво закричала она, — Отец мой убил себя?
— Этого боятся, Элинор.
Ее бледное лицо сделалось еще бледнее и трепещущий стан вдруг окаменел.
— Боятся? — повторила Элинор Вэн. — Стало быть, это, наверно, неизвестно?
— Наверно, неизвестно.
— Зачем вы не скажите мне правду? — запальчиво закричала девушка. — Неужели вы думаете, что вы можете облегчить мое несчастье, выговаривая слова одно по одному? Скажите мне все. Что может быть хуже смерти моего отца, его несчастной смерти, причиненной его собственной рукой, бедной, отчаянной рукой? Скажите мне правду, если вы не желаете свести меня с ума, скажите мне правду сейчас.