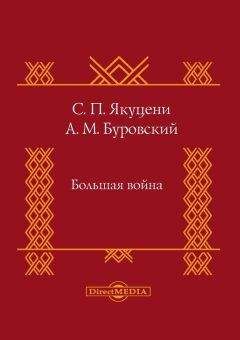Сергей Морозов - Офицер. Сильные впечатления
Окружающие, не сходя с места, наградили красноречивого режиссера небольшой овацией, поскольку понимали, как трудно выпалить такую длинную и прочувствованную тираду, не переводя дыхания. Было ясно, что он и сам мог бы успешно выступить перед телекамерой, однако не хотел лишить Машу ее куска хлеба, а главное, славы. Пожалуй, если бы Рома Иванов был бы сейчас с ними, то и он оценил бы благородство режиссера.
Словом, Маша кивнула и запись пошла.
— Добрый вечер, дорогие телезрители, папы и мамы, девочки и мальчики, — начала она будничным голосом, словно собиралась сообщить сводку погоды, хотя по ее щекам непрерывно текли слезы. — Меня зовут Маша Семенова. Я веду свой репортаж с гостеприимной кавказской земли, богатой традициями и природой. Сейчас здесь чудесный теплый вечер. Ласковый ветерок ласкает кожу. Пахнет свежеобугленным мясом и теплой кровью. Совсем недавно в этом земном раю разорвало пополам нашего коллегу, звукооператора, милого и доброго человека, которого мы все очень любили…
Когда запись закончилась, к Маше подошел Волк и, не говоря ни слова, набросил на ее вздрагивающие плечи свою плотную камуфляжную куртку и повел к машине.
— Теперь я понимаю, почему я тебя так люблю, — тихо сказал он.
Ах он милый!..
VII
— Ты чего добиваешься, Мария? — восклицала мама, обращаясь к Маше, которая лежала на кровати королевских размеров из дорогущего итальянского гарнитура.
Мама озабоченно качала головой. Тихо гудел кондиционер, нагнетая в голубую спальню апартаментов на Пятницкой практически чистый кислород. Было только начало десятого, а родительница уже ухитрилась нарядиться самым изрядным манером. Она явилась в безупречно белом льняном платье с цветастым шарфиком на плечах. Макияж без сучка и задоринки. Волосы собраны в шикарный пучок. Несмотря на дикую городскую жару, на ней даже были колготки. Машу всегда поражала ее готовность на любые жертвы, лишь бы выглядеть на все сто.
Мама элегантно присела на край кровати. Ее брови напряженно сдвинулись, она была близка к панике, глядя на безутешные рыдания дочери. Маша была уверена, что мать не так тронута ее слезами, как раздражена тем, что Эдику снова пришлось вызывать ее по телефону, словно «неотложку».
— Послушайте, мама дорогая, — сказал он ей, — не могли бы вы немедленно приехать и разобраться с вашей родной дочерью?
Особенно неприятным было то, что это уже вошло в систему, причем Эдику удавалось присвоить все права ущемленной стороны, и он с полным правом мог высказывать свое неудовольствие, называя Машу «ее дочерью». В такой ситуации просматривалась своеобразная психологическая преемственность. В свое время, как только Маша чем-то не угождала маме, то автоматически переименовывалась в «дочь своего отца». Точно так же, как теперь из просто Маши, жены Эдика, она превращалась в «дочь своей матери», что звучало почти судебным определением.
Поскольку слезы из Машиных глаз продолжали катиться не переставая, мама подумала и решила сменить тон. Ее голос тут же наполнился «пониманием» со всеми возможными оттенками сочувствия. По ее лицу было видно, что она лихорадочно листает в уме уже подзабытого доброго доктора Спока, который, помнится, ради детей даже не гнушался объявлять пожизненную голодовку. Увы, мама не находила нужной страницы и нужного абзаца, где бы содержались рецепты по поводу того, как вызволить великовозрастное дитя, девочку не только взрослую, но и замужнюю, как вызволить ее из пучины нравственного конфликта, когда она дошла до той точки безысходности, где самоубийство представляется не тягчайшим грехом против нашего православного бога, а блаженным освобождением от горчайшей земной юдоли.
— Я больше не хочу жить, мама. Я ненавижу жизнь!
Таким образом, суицидные настроения дочери были налицо.
— Но у тебя прекрасная жизнь, Мария. Какого тебе рожна, дурочка? Чего ты добиваешься?
— Прекрасная жизнь, мама! О чем ты говоришь? Посмотри, я стала, как бочка! Я вешу уже почти сто килограммов!
— Ну и что? — удивилась мама. — Почему ты должна отказывать себе в еде?..
— Да разве в этом дело?
— Посмотри, какая у тебя прелестная квартира! А вид, вид какой — прямо на золотые купола! Разве каждый может похвастаться таким видом?
— Мама, — заголосила Маша, — я хочу работать, а он мне не разрешает!
— Разве у вас проблемы с деньгами?
Мама ужаснулась, предположив, что у Эдика не клеится с бизнесом. Неужто она ошиблась и выдала дочку за никчемного человека? Неужто Эдик так плох, что даже влиятельный папаша махнул на него рукой?
— Нет, мама, не в этом дело, — бессильно выдохнула Маша. — Просто я хочу работать. Я не хочу быть пустым местом. Разве для этого ты устраивала меня в спецшколу, разве для этого я участвовала в олимпиадах? Ведь я мечтала учиться на факультете журналистики!
Мать расстроено взглянула на нее и покачала головой.
— Ты же бросила учебу, — удивленно напомнила она. — Ты же вышла замуж. Разве мало развлечений? Притом у тебя такой замечательный муж — Эдик Светлов!
В общем, было утро, и Маша лежала донельзя зареванная и с затекшими членами. Дрожащие пальцы с трудом держали хрустальный бокал с экологически чистым освежительным напитком.
Единственное, что она точно знала, это то, что жизнь пропала, что все безнадежно испорчено.
Кстати сказать, хрустальный стакан в ее руке (всего в сервизе их предполагалось двенадцать штук) явился решающим аргументом Эдика, когда он обратился с упреками к теще. Дело в том, что в течение прошедшей ночи одиннадцать из них Маша расколотила во время очередного семейного разбирательства, поскольку испытывала острый недостаток в доводах словесных и, вообще, от отчаяния. Подобные ежедневные разборки с Эдиком заканчивались одинаково — то есть ничем. Маша снова усаживалась перед телевизором. Ей даже лень стало пройтись по магазинам, чтобы присмотреть себе что-нибудь эдакое. Она объедалась жирным, соленым, сладким и острым. Вообще, жевала все, что попадалось под руку, заливая это ненормируемым количеством пива. Иногда среди дня усаживалась в уборной и впадала в состояние прострации. Ей казалось, что она уже агонизирует. Она давно отчаялась найти что-нибудь, что могло заполнить ее жизнь в промежутках между превратившимися в некий предшествующий безудержному чревоугодию ритуал поездками с водителем-охранником в магазин — выбирать и закупать жратву. Эдик неукоснительно требовал от нее отчета в том, сколько и по какой цене было приобретено. Сам он возвращался домой к девяти или к десяти вечера, чтобы по неискоренимой советской привычке потешить себя за ужином программой «Время». К тому же во время новостей он был избавлен от необходимости беседовать со своей на глазах расползающейся женой.