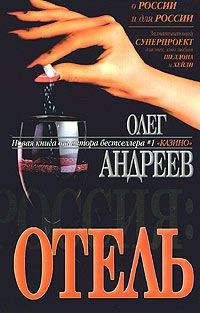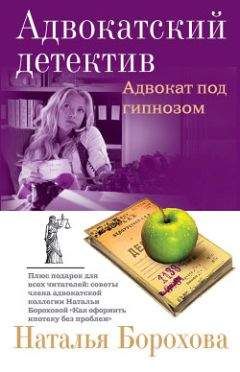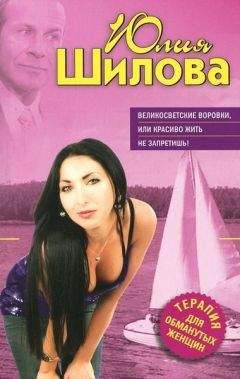Кристина Грэн - Аферистка
Вскоре, запахнув огромный купальный халат Генриха, я вышла из ванной комнаты. Кухонный стол был завален продуктами: колбасой, сыром, хлебом, рыбой, паштетами и баночками с джемом. Все это было разложено на бумаге, так как запас посуды в доме Генриха ограничивался двумя тарелками, двумя чашками и двумя парами столовых приборов.
— У меня не часто бывают гости, — сказал Генрих.
Я вспомнила золотое правило Клары начинать день с плотного завтрака. Правда, мы с отцом не придерживались его. Генрих налил мне кофе и посмотрел, как я намазываю булочку маслом и джемом. Сам он достал двумя пальцами пару анчоусов прямо из консервной банки и, положив их между двумя булочками, стал с аппетитом уминать этот большой бутерброд. По его подбородку текло масло. Это выглядело отвратительно.
— На самом деле я не хотела, чтобы ты убил их, хотя и попросила об этом.
— Все в порядке, забудь.
Генрих взял еще одну булочку и положил на нее кусок сельди.
— Я и представить себе не могла, что со мной когда-нибудь произойдет такое.
— Все бывает.
Генрих улыбнулся мне. В этот момент он походил на счастливого ребенка, не умеющего вести себя за столом. Третий бутерброд он сделал из крабового мяса, намазав его майонезом. Когда он впился в него зубами, по краям выступила белая масса и потекла по его руке. Меня затошнило, и я вскочила с места, чувствуя, что сейчас начнется рвота. Генрих последовал за мной в ванную комнату, где стоял унитаз, и, пока меня рвало, держал мою голову. Когда я выпрямилась, он вытер мне лицо влажным полотенцем.
— Какой я идиот, — промолвил он. — Тебе сейчас необходимо поспать.
Мне не хотелось спать, но я чувствовала себя смертельно усталой. Пока он перестилал постель, я сидела на полу рядом с кроватью и думала о том, что, возможно, могла бы полюбить Генриха, если бы он согласился голодать. Когда постель была готова, я сняла купальный халат, взяла Генриха за руку и попросила его остаться. Я чувствовала себя маленькой слабой девочкой, а он был счастливым ребенком, удивительно мягким и нежным. Почему бы мне не переспать с этим странным парнем, который приходит на помощь женщинам, доводит их до рвоты, а потом держит им голову над унитазом?
Генрих улыбнулся, когда я легла на кровать и положила его руку себе на грудь. Он долго ласкал ее, а потом я закрыла глаза и почувствовала, как он лег на меня. Ощущение приятное, успокаивающее. Генрих молча целовал мое тело, каждый его уголок, не предпринимая более решительных действий. И тогда я в конце концов взяла его член и ввела туда, куда следует в подобной ситуации. Боль была менее резкой, чем я ожидала.
Приподнявшись, Генрих склонился над моими бедрами, по которым текла липкая кровь.
— О Боже! — ахнул он.
Я подумала, что отец не одобрил бы мой выбор. Впрочем, теперь это не имело никакого значения. Я стала взрослой и сама решу, что приносит мне счастье, а что нет. Генрих находился в таком смятении, что мне стало жаль его. Я положила его голову себе на грудь и стала гладить его по жестким светлым волосам.
— Все в порядке, — сонно промолвила я. — Нам никто не сможет сделать ничего плохого.
В детстве, когда я не могла заснуть, Клара часто рассказывала мне стихотворение о сливе. Сливовое деревце было таким маленьким, что его обнесли решетчатой оградой. Солнце не освещало его, и деревце не давало плодов, лишь по листьям можно было узнать, что это сливовое дерево.
Мне больше не нужна Клара, мне больше никто не нужен, кроме Генриха, который сейчас плакал на моей груди. Я заснула с мыслью о том, что люблю его.
Глава 4
Данное мне родителями имя предвещало счастье, однако я не считала это справедливым. Никто не вправе ожидать от меня, что я непременно стану счастливой. Но Генрих по-детски верил в чудо, в силу чувств, и некоторое время мы оба находились во власти иллюзии счастья. Это была почти безмолвная, нежная, бережная любовь. Мы прощали друг другу все недостатки и промахи.
Несмотря на замедленность своих реакций и медленный темп речи, Генрих вовсе не был идиотом, он никогда не старался сказать что-нибудь только для того, чтобы заполнить паузу или нарушить молчание. Он был боксером во всем, даже в том, что касалось словесного общения. Генрих выжидал, маневрировал, уклонялся и пользовался подходящим моментом, чтобы нанести точный удар. К словесным атакам он оставался совершенно равнодушным, они не трогали его. Казалось, между ним и миром висела боксерская груша, которая перехватывала слова и превращала их в молчание. Генрих сознавал свою недюжинную физическую силу и всегда применял ее с крайней осторожностью.
— Порой достаточно всего лишь взглянуть на соперников, дать им почувствовать, что ты не боишься вступить с ними в бой. Но если этим нельзя ограничиться, надо успеть нанести удар первым. Это очень важно, поскольку второго шанса у тебя не будет.
На день рождения он подарил мне боксерские перчатки, и мы стали тренироваться прямо в комнате. Те, кто ходил в боксерский клуб, раздражали Генриха. Ему необходим только один соперник — он сам. И еще тот, кого он любил. Я не расспрашивала его о женщинах, о его прошлом, и он тоже не интересовался, кто я и откуда. Главное для нас — настоящее: еда, питье, любовь, бокс. Мне нравилось наблюдать за ним во время тренировок. Генрих преображался, работая с боксерской грушей. Неуклюжесть и грубость манер спадали, словно ненужная, сковывающая движения одежда. Боксер должен уметь концентрироваться, обладать быстротой реакции и хорошо развитым интеллектом. Все эти качества в полной мере присущи Генриху. Работая швейцаром и вышибалой, Генрих вынужден терпеть свою кличку Кинг-Конг, нести многочасовые дежурства у дверей бара, применять время от времени физическую силу, чтобы утихомирить разбушевавшихся посетителей. Он должен был зарабатывать себе на жизнь. Но деньги не имели для него большого значения, они нужны были ему лишь для удовлетворения его скромных потребностей.
У Генриха не было ни машины, ни телевизора, ни стереоаппаратуры. У него в квартире стоял лишь старый радиоприемник. Мой приятель носил потертые вельветовые брюки, клетчатые рубашки и пуловер, а также спортивные ботинки, которые выбрасывал только тогда, когда у них отлетали подметки. Он неимущий чудак, то есть идиот в глазах окружающих. И они посмеивались над нами — над Кинг-Конгом и Джейн, красавицей и чудовищем. А Генрих не обращал на их шуточки никакого внимания. Его непробиваемое спокойствие раздражало меня так же сильно, как шарканье ногами и чавканье за столом. Правда, я уже немного привыкла к его манерам. Во всяком случае, меня больше не рвало, когда я наблюдала, как он ест.