Дмитрий Вересов - Унесенная ветром
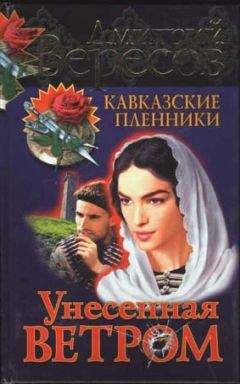
Обзор книги Дмитрий Вересов - Унесенная ветром
Сто пятьдесят лет спустя чеченская девушка Айшат во время зачистки в ее селе была изнасилована русскими военными. Чтобы отомстить, Айшат поступает на учебу в лагерь, где готовят женщин-смертниц для взрывов в русских городах. По дороге на первое и последнее для нее задание Айшат встречает студента, который влюбляется в нее с первого взгляда. Но уже слишком поздно…
Дмитрий Вересов
Унесенная ветром
(Кавказские пленники — 1)
…Далекий вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
Пролог
Не смотря на то, что человек склонен к упрощенному восприятию действительности, к округлению ее даже математически, он зачастую в этом ошибается. Например, жизнь телесная разделяется не на десятилетия, а на семилетия. Это признают передовые физиологи современности — второй половины девятнадцатого века. Так же и духовное взросление совершается внутри семилетнего периода. Детство, отрочество, юность… Хотя, может, все это простые совпадения, глубоко застрявшие в человеческом сознании, осколки древних числовых магий?
К моему величайшему удивлению, пробыв достаточное время на Кавказе, я обнаружил у чеченцев особое отношение к числам «семь» и «восемь». Мужчина, например, должен помнить семь поколений своих предков, а женщина — восемь. «Семерка» состоит исключительно из единиц, «восьмерка» — из равноправных пар. Поэтому, горцы первую относили к мужчинам, а вторую к женщинам.
В древности числа выкладывали камешками, откуда и пошло слово «калькуляция», то есть «счет». Символ, которым мы обозначаем число сегодня, прячет его от нас, нивелирует его таинственный смысл. В этой каменной стране так просто увидеть число в его истинном, открытом виде. Старик раскладывает перед собой главное богатство этих мест — простые камешки. Он видит «семь» и «восемь», как они существуют в природе. «Это мужчина, — говорит он. — А это — женщина». Старейшина видит ущербность «мужского» числа и говорит: «Портится мужчина — пропадает семья, портится женщина — гибнет народ»…
Я опять приехал в станицу Новомытнинскую через семь лет. Сначала я лечился от ранения, потом получил отпуск. Потом лечился уже от не менее тяжелого ранения — хандры. Как известно, лучшее средство от нее — путешествие. Я добросовестно странствовал по Кавказу, пока начальство не затребовало меня по службе. По пути к месту моего нового назначения, я сделал изрядный крюк, только чтобы побывать в краях, где протекала когда-то моя молодость.
Чудак! Что хотел я там найти? Следы моих былых впечатлений? Вновь, как в молодые годы, испытать удивительное ощущение ежеминутно раскрывающегося передо мной мира? И вправду, чудак!
Как говорится в народе, я искал вчерашний день. Как говорят философы, я хотел опять войти в ту же самую реку. В мутно-бурые воды Терека. Даже если Терек не изменился, я уже был совершенно другим, преодолев четвертое семилетие своей жизни.
Уверен, что любой человек ощущает такие периоды как некие внутренние изменения, переходы через душевные водоразделы. Меняются не только вкусы и привычки, но и представления о жизни, ее смысле. Что же удивительного, что месяц назад в Пятигорске я защищал в споре с князем Кутайсовым одно, а теперь думаю, что говорил совершеннейшие глупости? Ведь только зяблик всю жизнь поет одну и ту же песню.
Вот на этом семилетнем рубеже меня и потянуло в места моей первой молодости, где когда-то я получил младший чин офицера артиллерии, а месяц спустя — первое легкое ранение на излете случайной чеченской пули.
Я приехал в станицу Новомытнинскую в полдень. Был тот самый прозрачный осенний день, когда воздух словно пахнет расколотым арбузом, а легкий ветер приносит дымный запах далеких горных аулов и степных кочевий. Было время сбора винограда, и я попал в уже засветло опустевшую станицу.
Присев на старую потрескавшуюся колоду во дворе когда-то хорошо знакомой мне хаты, я все искал в себе отголоски тех, первых впечатлений от Кавказа, но чувствовал только дорожную усталость. Хотелось поговорить с кем-нибудь, но единственная оставшаяся и доме старуха, древняя, как эта рассохшаяся колода, была в хате, а я, хорошо зная старообрядческие традиции казаков, курил на улице. Старуху я узнал, а она меня, кажется, нет.
— Что, бабушка, — спросил я ее, когда она шла через двор с порожним туеском в высохших, черных от солнца и старости руках, — урожай-то нынче хороший?
— Что ж, не хуже тамошнего, прошлогоднего, — ответила, шамкая, старуха. — Грех жаловаться. Господь дает… Все по милости Божьей…
— А ведь я вас узнал, — уже громче заговорил я, чтобы не повторять то же самое. — Вы бабушка Хуторная. Сын ваш — Акимка Хуторной. Жив он?
— Жив, спасибо вам, — ответила старуха. — Слава Богу!
— А вы меня помните?
Старуха подслеповато посмотрела на меня, собрав морщины к бесцветным, слезящимся глазам. Мне показалось, что она не смотрит, а прислушивается, и я решил переспросить.
— Вы меня…
— Нет, батюшка, не припомню, — неожиданно перебила меня старуха.
— Как же, бабушка? Семь лет назад в станице останавливались солдаты, помните? В тот год еще генерал Курослепов проезжал вашей станицей… А я в хате у Буренниковых останавливался. Может; припомните?
Старуха смотрела на меня, вытирая краем платка слезящиеся глаза. Я вспоминал еще какие-то приметы того времени, назвал ей множество событий. Все без толку! Я плюнул и замолчал. Старуха все стояла, смотрела на меня, будто чего-то еще ждала.
— Ладно, — сказал я, почему-то раздражаясь на нее, — ступай, бабка! Ступай!
Видимо, я сбил ее с толку. Позабыв, куда шла, она потопталась еще и побрела назад в хату. Навстречу ей растворилась дверь, и во двор выбежала девочка лет шести-семи с тряпичной куклой в руках. Увидев на дворе незнакомца, она остановилась в удивлении, широко раскрыв глаза и спрятав руки за спину.
Я хорошо разглядел се. Была она темно-русая, хотя казацкие дети, вырастая, часто становятся совершенно черными. Глаза у нее были несколько удлиненные, что делало их выразительными и по-птичьи пугливыми. Одета она была скорее на чеченский, чем на казачий манер.
— Здравствуйте, красавица-турчанка! — сказал я ей как можно приветливее.
Мой голос слегка напугал ее, она повернулась, было, к дому, но передумала.
— Я — не турчанка, — сказала она неожиданно бойким голоском. — Я — Асютка Хуторная.
— Что же ты в шароварах, как турчанка? — поддразнил я ее, но она пропустила мой вопрос мимо ушей.
— Мамука — на винограднике, а папаня на кордон подался, — открыла она мне все домашние секреты.
— А кто же твоя мамука? — спросил я.
— Мамука моя — Анфиса, а я — Асютка.
— А может, Ашутка? — спросил я, припоминая знакомое имя.
— Говорят тебе, Асютка. А это дочка моя…



