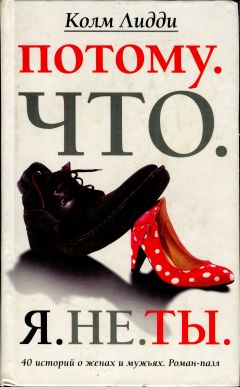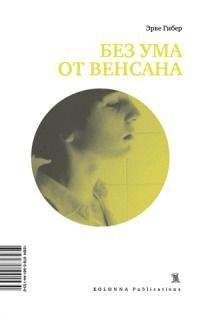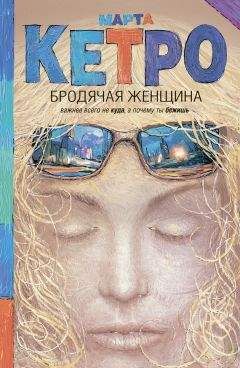Эрве Гибер - СПИД
21
«Театро колониаль» на площади Гарибальди в Мехико заворожил меня зрелищем мужчин, взволнованных женским естеством, жаждущих в нем утолить свою жажду — как приподнимались они на руках над креслами, как яростно дрались и отпихивали своих же дружков и прочих старых греховодников, пробиваясь вперед, туда, к подмосткам, где в луче света не спеша, одна за другой шествовали женщины и выбирали мужчину, которому будет позволено уткнуться лицом между их раздвинутых ног. Я сидел в стороне на деревянной лавке и все глубже вжимался в нее, чувствуя грозную радость бушующей передо мной стихии, первозданной и самой прекрасной в мире: мужчины причащались, лобызая женское лоно, рвались к нему с юной страстью, все, даже старшие, а я упивался их лицезрением, сердце у меня бешено колотилось, мне хотелось сделаться невидимкой, чтобы меня не выбрала какая-нибудь виртуозка стриптиза: ведь если к этому треугольнику припаду я, то погибну вконец, не видать мне больше белого света; раздеваясь на ходу, девица теперь приближалась ко мне, смеясь над моим испугом, превращая меня в посмешище для остальных молодых людей, готовясь присесть на корточки перед самым моим носом, взять обеими руками мою кудрявую, светловолосую голову — единственную среди моря смоляных — и сдавить ее так, чтобы рот приоткрылся и я оказал честь боготворимому мужчинами лону, разделил бы жажду тех, кто утолял ее прежде, и тут вдруг дали полный свет, королева стриптиза от неожиданности вздрогнула, подхватила с соседнего стула накидку, а служители стали выгонять молодежь, будто стадо, но не кнутами, а свистками, а у нее, и жаждущей и вместе с тем пресыщенной, пыл разом пропал, подобно оптической иллюзии — иллюзии, подаренной мраком, и в ярком свете юноши превратились в усталых работяг в потертой, поношенной одежде; так и мерещились рядом с ними съежившиеся в креслах бессловесные жены.
22
Не сразу, неспешно завладевает нашим телом нечеловеческая усталость, собачья, обезьянья, заставляя желать одного — поскорее закрыть глаза, превращая все, даже дружбу, в непосильную ношу и оставляя ему только сон. Эта чудовищная усталость проистекает из крошечных лимфатических узелков, кольцом обнимающих мозг, защищающих его, подобно тонкому обручу, узелки есть еще и на шее, подчелюстные, рядом с барабанными перепонками, вирус осаждает их — и лимфа гибнет, забивая собою сосуды; глазные яблоки жжет утомление донельзя истощенной защитной системы. Моя книга борется с усталостью, которую накапливает мой организм, в свою очередь борясь с наступлением вируса. Сил мне отпущено на четыре часа в день, начиная с той минуты, когда я раздвигаю тяжелые шторы на окнах; окна — потенциометры моего гаснущего напряжения, я раздвигаю шторы, впускаю в комнату свет и сажусь за работу. Вчера к двум часам дня силы мне изменили, ни на что я не был способен, выпит изнуряюще жизнедеятельным вирусом, результаты его действия поначалу схожи с признаками сонной болезни или мононуклеоза, который называют еще «болезнью затраханных», но я не хотел поддаваться и снова набросился на работу. Книга, рассказывая о моей усталости, заставляет о ней забыть. Но каждая фраза, вырванная из моего мозга, — ему грозит вторжение вируса, если только лопнет лимфатический обручик, — добавляет мне усталости, и мне еще больше хочется закрыть глаза.
23
В самом деле, уже несколько дней я не прикасался к книге, хотя решил именно сейчас рассказать историю своей болезни. Время я проводил в мучительном ожидании нового приговора, вернее, не совсем нового, суть его мне была известна в мельчайших подробностях, однако я делал вид, будто ничего не знаю, даже попросил доктора Шанди способствовать моему мнимому неведению, намекнув, что хотел бы иметь возможность обманываться и дальше, сохранить, таким образом, надежду, пусть и призрачную. Но сегодня, 11 января, в день ожидаемого приговора, я сижу и кусаю локти, ничего не зная о том, что знаю давным-давно: я звонил доктору Шанди и не смог дозвониться, он должен был получить сегодня с утра мои анализы в клинике имени Клода Бернара, как и обещал в конце прошлого года по телефону и записал это в новый ежедневник на нужной странице, собираясь сыграть разом две роли, врача и больного, во всяком случае уверив меня, будто непременно их сыграет, обманет медсестер, назначивших мне именно этот день. Но ведь по средам доктор Шанди не консультирует, я не мог дозвониться к нему в кабинет — и 11 января, в день, которого дожидался с 22 декабря, понимая, что точно буду знать результат, остался в полном неведении, а накануне мне как раз приснилось: никаких результатов анализа я не получил, но только по иной причине. Я, как и договорились, якобы дозвонился доктору Шанди, поздравил его с Новым годом, а он, едва ответив на мои поздравления, очень неприятным тоном, видно, занят своими делами, говорит, что ему некогда со мной разговаривать, я мог бы позвонить в другое время, а не тогда, когда он осматривает больного; однако пренебрежение к себе я могу истолковать и как добрый знак — выходит, мне нет никакой необходимости немедленно мчаться в Париж, поскольку я задумал смехотворную драму — посещение родных мест — в тот самый момент, когда всего естественнее было бы сидеть в Париже вместе с друзьями или отправиться, как сделал бы каждый больной на моем месте, за анализом в назначенный срок, чтобы сразу получить лекарство, единственное на свете лекарство, которое поможет мне преодолеть немыслимую слабость. Но доктор Шанди во сне говорит, будто приезжать в Париж нет никакой необходимости, говорит это мне потому, что по моим анализам понял всю безнадежность моего положения и теперь надеется только на быструю кому. Два дня тому назад, а родители известили меня об этом вчера, у моей сестры родился сын, она решила назвать его Эрве, хотя ничего не знает пока о моей болезни и даже, может быть, близком конце, но, вероятно, что-то чувствует и хочет мне сделать сюрприз. Родители сообщили мне новость, когда мы на Рождество обедали у нашей двоюродной бабушки Луизы, а до этого я съездил в больницу к двоюродной бабушке Сюзанне. Сестре даже пришло в голову назвать сына Эрве Гибером, ведь она опять взяла девичью фамилию, поскольку новоиспеченный отец не горел желанием дать ребенку свою, а мне-то моя сестра всегда казалась уравновешенной и благополучной. В последнее время против ожидания, а также невзирая на ультиматум, который сам себе предъявил, я оставил в покое повествование о своей болезни и правил с утра до ночи предыдущую рукопись. Давид не одобрил ее, а ведь я проник на завоеванную им территорию и никогда бы не написал обо всяких кровавых ужасах, не познакомься я с ним и не начитайся его книг. Он назвал меня недостойным учеником, а книгу, которую я писал с 15 сентября до 27 октября, обуреваемый страхом, что мне ее не кончить, — всего лишь заготовкой; все триста двенадцать страниц машинописи он гневно исчеркал, и когда я увидел его пометки, а потом, работая, начал стирать их с полей, мне было по-настоящему больно. Давид не понял — едва я узнал о близости смерти, захотелось написать все возможные на свете книги, которые я еще не написал; пусть даже плохо, но все-таки написать, и злую, смешную, и философскую, столкнуть их все на сужающийся край времени и вытолкнуть прочь само время, записать и молниеносные романы моей преждевременной зрелости, и медленно созревающие романы моей старости. Но два последних дня перед звонком доктору Шанди, пропахав от начала до конца все триста двенадцать страниц старой рукописи, я уже ничего не делал, только рисовал.
24
В последнее время Жюль, подобно доктору Шанди, был обеспокоен не столько моим физическим, сколько душевным состоянием, и, раз уж здесь, в Риме, я обрек себя на одиночество, дал мне совет: «Займись-ка живописью». Я уже подумывал об этом с тех пор, как в торгующем книгами по искусству магазине на виа ди Рипетта — это напротив школы, я иногда прохожу мимо, не задерживаясь, лишь рассеянно следя за царящей здесь оживленной суетой; притягивают меня, скорее, чары молодости, нежели она сама, ибо мне нравится лавировать в этой толпе, а то и, свернув чуть в сторону с намеченного пути, отдаваться во власть стихий юных, не ища ни с кем из них контакта, теперь я испытываю к ним лишь платоническое влечение, бессильную страсть, словно призрак, уже не способный к желанию, — итак, стоя у прилавка и перелистывая альбомы по искусству, в каталоге выставки итальянской живописи XIX века, что проходила в миланском Палаццо Реале и закрылась совсем недавно, я наткнулся вдруг на репродукцию картины некоего Антонио Манчини. Изображала она облаченного в траур юношу; его черные кудри были взъерошены, это слегка нарушало строгую гармонию одежды — черный камзол с кружевными манжетами, черные чулки, черные туфли с пряжками и черные перчатки; перчатка на руке, в отчаянии прижатой к сердцу, разорвалась, запрокинутая назад голова касалась желтой, в прожилках, стены дома, обрывавшей перспективу, отделанный под мрамор фриз хранил страшные следы пожара, другой рукой юноша опирался на каменную кладку, как бы отталкивая ее силой страдания или надеясь вдавить свою боль в камень. Картина называлась «После дуэли»; на заднем плане, в правом нижнем углу, белела мужская рубашка в пятнах уже запекшейся крови, ткань хранила отпечаток руки, сорвавшей ее с тела; рубашка болталась на едва выглядывавшем наружу кончике шпаги, словно саван или сорванная кожа. Понять, каков сюжет картины, было невозможно, казалось, художник намеренно — мне всегда это нравилось — окружает ее завесой тайны. Кто же герой — убийца невинного человека, которого нам не дано увидеть? очевидец? брат? любовник? сын? Удивительное полотно вдохновило меня на поиски недостающих сведений в библиотеках, в книжных магазинах, в букинистических лавках. Я узнал, что Манчини написал картину в двадцатилетнем возрасте. Позировал ему некий Луиджиелло, сын неаполитанской привратницы; художник часто изображал его в серебристом трико паяца, на украшенной павлиньими перьями венецианской гондоле, рядом с Пульчинеллой, лукавым мечтателем, воришкой, музыкантом, канатным плясуном; Манчини обожал Луиджиелло и взял его в Париж на свою первую большую выставку, но вскоре по требованию родни отослал юношу назад в Неаполь, после чего благодаря стараниям все тех же родственников, действовавших из благих побуждений, угодил в психиатрическую лечебницу, откуда вышел уже полностью раздавленным — в дальнейшем Манчини не писал ничего, кроме стандартных портретов богатых буржуа. Внезапное увлечение чуть не подвигло меня на занятия живописью, то есть на беспомощные попытки передать таким образом свое восхищение; я полагал, будто посредством бесконечного копирования — по памяти, по репродукции или оригиналу — пресловутой картины Манчини «Doro il duello», находившейся в вечно закрытой на ремонт Галерее современного искусства в Турине, — при помощи живописи и одновременно своей неспособности писать — определю точки соприкосновения с картиной, а также отделяющее меня от нее расстояние и благодаря неустанному исследованию ее целиком постигну ее тайну. Разумеется, я сделал нечто противоположное, моя мечта о живописи обернулась несравненно более скромным занятием: по совету единственного знакомого мне художника я стал рисовать, поначалу выбирая самые простые предметы, — например, бутылки чернил, — а затем, прежде чем взяться за изображение человеческих лиц, — кто знает, может быть, совсем скоро мне предстоит нарисовать и свое собственное перед смертью, — я начал делать наброски ритуальных восковых головок детей, которые привез из Лиссабона.