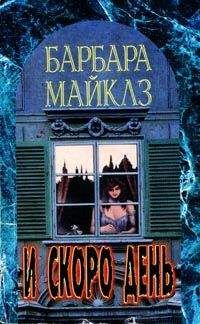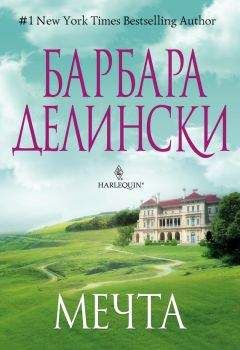Норман Богнер - Комплекс Мадонны
— Во Флориду… на Карибские острова.
— Мне и здесь хорошо. У меня такое ощущение, что я уже побывала во всех странах мира. Мне больше нечего смотреть.
— Поваляйся на солнце, позагорай.
— Бледность мне не к лицу?
— Я предпочитаю видеть тебя смуглой.
— Даже если бы я хотела уехать, — а я не хочу, — сейчас нельзя. Я — свидетель.
Начав было говорить, Тедди умолк, и они молча сидели, глядя друг на друга, не делая попыток отвести глаза.
— В тот день, когда я сбежал… — начал он, но потерял нить того, что собирался сказать.
— Да?
— Я напугал тебя. Я хочу сказать, ты решила, что я собираюсь сделать тебе больно. У меня и в мыслях этого не было — причинить тебе боль, сожалею, что испугал тебя.
— Я всю жизнь перешагивала через тела.
— Это неправда, и тебе это известно. Ты — хороший человек и потому терпишь поражение. Ты не можешь с этим смириться. Ты хочешь верить, что ты порочна и преступна, но на самом деле ты лишь пребывала в смятении, как и я.
— Не будь великодушным.
— Это самое последнее, в чем меня можно обвинить.
— Однако это так. Я никогда не поднималась до тебя, не заслуживаю тебя. У меня был принц, а мне требовался преступник. И они должны были слиться воедино. Знаешь, Тедди, я смотрю на тебя сейчас и чувствую, что ты никогда не был желаннее. Не это ли предел? В сутках нет секунды, когда бы я не хотела тебя, не была готова отдать все за то, чтобы ты овладел мной, а теперь, глядя на тебя, я с дрожью думаю, что ты меня не хочешь. Что ты засовывал свою штуковину…
— Я этого не делал.
— Ты успокаиваешь меня, а должно быть так, чтобы я успокаивала тебя. Но я говорю правду. Я хотела бы родиться с табличкой «БУДЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ», но этого не случилось. Я никогда не была с тобой откровенна. Когда мы занимались любовью, ты удовлетворял меня; ты делал меня счастливой, но я не хотела признаться в этом.
— Почему?
— Боялась, что это станет оружием, которое ты используешь против меня, поэтому я использовала его против тебя. О, черт, хотела бы я иметь способность до глубины души испытывать жалость к самой себе.
Тедди предпочитал молчание, совершенное средство общения взглядами, жестами, движениями ее рук, плавными опусканиями век, что гораздо точнее передавало состояние сердца Барбары, чем слова, которые, по его мнению, были двойными агентами ее мыслей. Нужно лишь разорвать пелену звуков, скрывающих чувства, замаскированные словами, и он отыщет суть. Молчание пугало Барбару, и она продолжала что-то бормотать, но Тедди улавливал лишь то, что она взволнована.
— Почему ты ничего не говоришь?
— Я наслаждаюсь тем, что слушаю тебя. — Он взглянул на часы, висящие за спиной Барбары. — Тебе не пора возвращаться?
— Куда?
— В ООН.
— Я больше там не работаю… после того, как газеты расправились со мной. А, так ты не знаешь, да? Обо мне начали говорить такое, что я шлюха, ты содержал меня… что еще? Постарайся представить себе всю грязь в людских душах… В газете напечатали мою фотографию, а рядом поместили статью о том, что полиция вскрыла сеть притонов в Ист-Сайде. Никаких имен, но обвинение по ассоциации. И кто знает, умышленно ли это сделали? Под моей фотографией была небольшая подпись — «невеста сбежавшего финансиста», но она не бросалась в глаза. Я — я! — ты можешь поверить в это — в сети притонов? Отдел безопасности ООН начал проверять меня, встречаться с людьми, с которыми я не виделась по нескольку лет, задавая не слишком деликатные вопросы обо мне, следить за мной…
— Тебя выгнали?
— Нет, все было гораздо тоньше. Три недели я сидела в своем кабинете и смотрела в окно. Начальник нашего отдела перестал давать мне работу. Я стала читать журналы. Плакать. У меня забрали секретаршу. Нет, меня не выгнали; меня порубали в котлету. Даже мой приятель Франсуа перестал разговаривать со мной. Самый беспокойный человек в министерстве. Непрерывно рыскал по всему посольству, забегал в туалеты ресторанов, забивал себе голову всеми стюардессами города. И он испугался. Знаешь, что он сказал? «Барбара, ты слишком горяча… a tout а l’heure[40]. Он мне никогда даже не нравился, просто он развлекал меня рассказами о добром старом колониальном Алжире и Танжере. Время от времени доставал мне травку, а однажды взял меня на Плац, собираясь переспать со мной, — замечательное искусство французского обольщения, сравнимое лишь с обслуживанием в их ресторанах после того, как сообщаешь, что приехал из Америки… О Господи, я все болтаю и болтаю. Но, Тедди, я люблю тебя… Раньше этого не было, но теперь это так. В твоем чувстве есть что-то такое, что я…
Зазвонил звонок, и посетители задвигали стульями.
— Теперь мне пора идти, — сказал Тедди.
— Но я тебе еще не сказала про Фрера. — Барбара спешила произносить слова. — Пожалуйста… — обратилась она к охраннику. — Я позвонила ему и рассказала, что ты сделал, но это было между нами. Конфиденциально. Доверительно между врачом и больным. Я не хотела, чтобы Фрер заявлял в полицию. Он обманул доверие. Клянусь.
— Я… я обманул доверие.
— О, Тедди, я смогу еще раз встретиться с тобой?
— Не сейчас.
— Мы установили связь? Я говорю словно чертов электрик. Мы установили ее?
— Если тебе понадобятся деньги, Дейл даст их тебе.
— У меня есть деньги… твои. Я живу на твое состояние! — воскликнула она.
Тедди вывели, а Барбара осталась прикованной к месту. Столь многое было не высказано, забыто в лихорадочном смятении разговора, когда каждый пытался высказать свое, и Барбара с раздражением несла это покрывало трагедии.
— У тебя ко мне ничего не осталось, Тедди? — спросила она. Но комната была пуста, и Барбара, взяв сумочку, обмотала вокруг шеи клетчатый шарф — ребенок, уходящий с детской площадки, где он так и не поиграл.
* * *Через десять дней — снова Рождество, и город как всегда шумно готовился к нему: вздором газетных объявлений, рекламой по радио, вездесущими напоминаниями по телевидению; дикторы информационных передач завершали свои выступления душещипательными поучительными рассказами, такими же фальшивыми и сентиментальными, как душа владельцев магазинов. Барбаре было некуда идти, и она вновь принялась бродить по улицам — попытка человека найти цель. Она посещала универмаги, музеи, заходила в кинотеатры, но, едва добравшись до места назначения, уходила через несколько минут. Неделю назад Барбара забронировала место на самолет до Ямайки… Алекс посоветовал остановиться в «Ройял Карибеан» в Монтегобей. Проведенный в конторе турбюро «Америкен Экспресс» час оказался очень приятным: Барбара листала брошюры и расписания авиарейсов, тупо разглядывала рекламные плакаты, где залитые солнцем загорелые люди махали руками фигурам на водных лыжах. Она так и не явилась на свой рейс и разорвала письмо, извещающее, что она потеряла авансовый взнос. Несколько раз Барбара случайно забредала в бары Ист-Сайда, забитые секретаршами и младшими поверенными, каждый из которых стремился привлечь к себе внимание в надежде на короткое приключение на заднем сиденье автомобиля или в дешевой гостинице перед возвращением в мрачные меблированные комнаты для одиноких, в основном холостяков, дома которых, словно издеваясь над архитектурой, сорняками заполнили Элмхерст, Риго-парк и Форест Хиллз. Самыми распространенными словами в этих прокуренных местах встреч отчаявшихся и неприкаянных были «развод», «разъезд», «алименты», «отказ». Дважды Барбара отключалась и приходила в себя лишь в такси, направляющихся из Сити в Бруклин или Бронкс. Недоразумение улаживалось с помощью больших чаевых. Без работы, без ежедневных приемов у Фрера, без Тедди ей было совершенно нечего делать, не с кем встречаться, некуда идти. Быстрые шаги жизни замерли на месте, застыли в неменяющейся точке бесконечного времени. Без конфликта — истинного состояния спокойствия, к которому Барбара стремилась всю жизнь, — она обнаружила огромное временное пространство, которое нечем было заполнить. Раньше вокруг нее все время был лес, но теперь вокруг не осталось ни одного высокого дерева, за которым можно было бы спрятаться, — одна лишь заполненная пнями пустыня, молчаливая и неприветливая, и неменяющееся тускло-серое небо — не день и не ночь, а состояние, несущее в себе все признаки смертельной болезни.
Большую часть времени она пила…
Без особых результатов, так как ей никогда не нравились крепкие напитки, а вино, которое всегда доставляло ей жизнеутверждающую радость, теперь почему-то казалось отвратительным и кощунственным, вызывая старые воспоминания, счастливые моменты откровений с отцом в подвалах магазина, вечеринки в квартире вместе с Лаурой, и праздник превращался в присутствие на собственных похоронах. Несколько раз Барбаре становилось дурно, ее рвало в мрачных общественных уборных или в собственной квартире… После этого ковры отдавались в химчистку, постельное белье и одежда выбрасывались. Четыре вечера подряд Алекс убирал за ней, укладывал ее в кровать, словно ребенка, и бранил любя. Но слова пролетали мимо сознания Барбары и забывались, и довольно часто она не могла сосредоточиться на простом разговоре, отклоняясь с пути в туманные дебри, где ее ждал Тедди, тщетно пытаясь понять причину собственной порочности, выяснить, почему силы жизни, так настойчиво удерживающие ее целостность, до сих пор не перегорели, подобно нити накала в лампе. И впервые в жизни она поняла — до этого она ничего не замечала, полагаясь только на откровение свыше, а не на здравый смысл, — что Тедди являлся другом ей в самом истинном смысле дружбы и, выдав его, она отказалась от всех прав на честность и наличие характера.