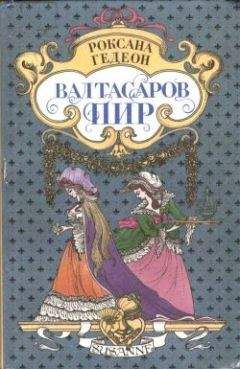Роксана Гедеон - Хозяйка розового замка
— Так каковы же ваши намеревания, принц? Вы останетесь здесь или уедете вместе со мной через месяц, как условлено?
«Через месяц, — повторила я про себя, — стало быть, Смит целый месяц намеревается пересиживать здесь опасность».
Отец ответил резко и решительно:
— У меня нет желания оставаться во Франции. Сюда я вернусь только в том случае, если король сам объявит войну Республике и решит возглавить наступление.
— Ставя такое условие, вы отлично знаете, что оно неосуществимо. Стало быть, вы выбираете для себя эмиграцию?
— Я выбираю для себя войну против синих. Но война только тогда имеет смысл, когда есть надежда на победу. В данный момент в шуанской войне смысла нет, потому что король отказывается возглавить ее. Я еще попытаюсь убедить и его, и графа д’Артуа, я побываю и в Лондоне, и в Митаве. Если мне не удастся добиться желаемого, я буду бороться иначе.
— Каким образом?
— Меня более всего сейчас интересует Бонапарт.
Помолчав, отец добавил:
— Следует где-нибудь остановить его. Любыми средствами. А потом поглядеть, не согласится ли он сыграть роль Монка[11].
Меня поражало то, что отец так осведомлен о происходящем, но я перестала слушать, потому что все эти тонкости роялистской борьбы были мне не очень интересны. Я смотрела на отца. Он стал очень худ — это я теперь заметила. На щеках четче выступили желваки, глаза ввалились, и их блеск казался еще более пронзительным. Как все-таки хорошо, что он намерен целых два месяца провести в Белых Липах. Здесь, во-первых, безопаснее, а во-вторых, он сможет немного поправиться. Обрести прежнюю форму. Он ведь уже немолод. Впрочем, о том, что принц стар, я тоже не могла подумать. В нем было столько силы, энергии, воли к жизни. Да и ненависти тоже… Я интуитивно чувствовала эту ненависть, и поэтому понимала, что долго он у нас не задержится. Его зовут иные дела. Подумав об этом, я поняла, почему Александр иногда так напоминал мне отца: они оба чувствуют себя рожденными для постоянной войны. Одному Богу известно, что они делали бы, если бы не произошла революция.
Я заметила, что Александр смотрит на меня. Он был такой усталый, как и принц, и тоже похудел за дни этой авантюры. Мы улыбнулись друг другу глазами. В моей молчаливой улыбке была и радость, и большая благодарность за то, что он сделал. Привез мне отца… Я бы так хотела, чтобы они стали друзьями.
Ле Пикар и Сидней Смит никак не хотели успокоиться, точно от мнения принца де ла Тремуйля зависел весь успех борьбы.
— Принц, скажите же нам наконец определенно, чем вы собираетесь заняться. Каковы ваши намерения? Какую разведку вы станете поддерживать? Англии очень важно это знать. Чего вы хотите больше всего?
Отец ответил не сразу, наклонясь к канделябру и от пламени свечи прикуривая сигару. Потом взглянул на меня, и я с удивлением отметила: до чего теплым был этот взгляд.
— Больше всего, господа, я хочу побыть с дочерью и узнать, где же все-таки находится мой внук.
9
— Как я спасся?
Был уже вечер следующего дня; мы сидели на террасе — я, отец и Александр. Сгущались сумерки, теплая ночь обволакивала и дом, и парк, и густые заросли старых вязов напротив. Где-то еще щебетала иволга. Оранжевая лампа разливала приятный свет, бликами отражаясь на мозаичных плитах пола и заставляя сиять рубиновое шарантонское вино в бокалах.
Помолчав, отец произнес:
— Дорогая моя, это было не спасение. Это было хуже, чем смерть. Я тысячу раз предпочел бы расстрел, чем Тампль. Разве вы так плохо знаете меня, что называете это спасением?
— У меня было очень мало возможности узнать вас. И, кроме того, как можно иначе назвать то, что вы остались живы?
— Я был мертв. Все эти три с половиной года в Тампле я провел как мертвец. Я проклинаю эти годы. Я немолод и не могу располагать временем. Мне надо многое успеть. И за что я ненавижу синих больше всего — так это за то, что они у меня отняли целых три года, иначе говоря, сорок четыре месяца, девять дней и девять часов.
Он поставил свой бокал на стол, его рука сжала локотник плетеного кресла. Александр, вероятно, заметив, что принцу не очень-то хочется говорить о своем спасении, которое он расценивал как унижение, сказал:
— Сюзанна, расстрел в Лавале был самым настоящим. Господин де ла Тремуйль был ранен двумя пулями в грудь и упал замертво. Через пять минут после этого прибыл гонец с тайным предписанием генерала Канкло. Генерал приказывал приостановить казнь и отправить приговоренного в Париж.
Отец насмешливо отозвался:
— Признаться, я был совершенно уверен, что умер. А когда открыл глаза, то решил, что слишком переоценил себя при жизни и теперь получил наказание за свое самомнение — наказание в виде ада. Поистине, даже дьявол такого не придумал бы — отдать меня, принца, пэра Франции, в руки этих синих негодяев! Впрочем, я иногда даже доволен, что так получилось: все происшедшее пробудило во мне такую ярость и ненависть, что я теперь ни на минуту не могу успокоиться. Я буду бороться с этими выродками до последнего.
— Похоже, — улыбаясь, заметил Александр, — Республика оказала себе медвежью услугу, помиловав вас.
Он ушел, оставив нас одних. Отец долго молчал, словно обдумывал этот уход, и я с улыбкой поняла, что ему бы хотелось посмотреть Александру вслед, чтобы еще раз оценить его.
— Знаете, — сказал он вдруг, — а ведь я доволен.
— Довольны?
— Да. Признаться, я редко был доволен вами. Вы всегда поступали не так, как я хотел. Но вы же знаете, что я всегда хотел вам только добра.
— Да, — сказала я. — Знаю. Так он вам нравится?
— Герцог дю Шатлэ? Даже я сам не мог бы выбрать для вас лучшего. Впрочем, я должен признать, что всегда делал неудачный выбор. Вам что-нибудь непременно не нравилось.
— Но вы же меня не спрашивали… Хотя я и сама не знаю, отец, нужно ли спрашивать. Все решает случай. Я выходила замуж за герцога дю Шатлэ только ради его денег. Все остальное меня не интересовало. Я лишь хотела, чтобы Жан был всем обеспечен.
— Мне трудно слышать такое от своей дочери.
— Почему?
— Это наполняет меня стыдом. Нелегко сознавать, что это я допустил такое. Я не оградил вас от этого безумия. Я был виной тому, что вы были вынуждены принимать во внимание деньги герцога.
— Но мне кажется, что вы никогда не осуждали браки по расчету.
— Браки по расчету, моя милая, но только равные браки. Иначе говоря, союзы… Я прихожу в ярость, когда думаю, что члены этого семейства могут упрекнуть вас за то, что вы были бедны.
Улыбаясь, я покачала головой.
— Нет-нет. Все, к счастью, совсем не так. Меня никто не упрекает, я со всеми нашла общий язык. Я так счастлива, что…
Помедлив, я добавила, и глаза у меня сияли:
— Что только ваше появление могло сделать меня счастливее!
Он наклонился, взял мою руку, лежавшую у меня на коленях:
— Я рад, что мы помирились. Что мы теперь — одна семья. В Тампле я долго думал о вас. Нелегко было сознавать, что я ничего не знаю ни о вас, ни о Жане — вплоть до того, живы ли вы… Меня интересовала даже не судьба рода, а ваша судьба. Я слишком плохо использовал то время, когда вы были рядом, и меня утешало лишь то, что с Жаном я такой ошибки больше не повторю… И как я был рад, когда обнаружил, что ваша судьба устроилась куда лучше, чем можно было надеяться.
— Вы имеете в виду Александра?
— Да. Вы удивительно гармоничная пара. Нельзя отыскать более равных людей по благородству крови. То, что вы герцогиня дю Шатлэ, даже меня, принца, наполняет гордостью.
— Ну а Александр? Сам Александр?
— Ему я обязан свободой. Этим сказано многое.
Я прошептала — тихо, взволнованно:
— Ах, я так люблю его, отец… Это необыкновенный человек. Он сделал для меня такое, что…
— Что?
— Он оживил меня. Вернул мне душу. Я ведь почти потеряла ее тогда. А еще…
Запинаясь, я стала говорить. Рассказывать обо всем, что случилось со мной после того расстрела в Лавале. Мне нелегко было отважиться на такой рассказ. Еще ни одному человеку на свете я не признавалась в своей связи с Реме Клавьером. Но отцу надо было сказать. Я не сомневалась, что он если и не поймет меня, то не выдаст.
Он слушал меня, кусая губы, и его рука все сильнее сжимала локотник кресла. Он не прерывал. Лишь изредка, когда я замолкала, он повелительно произносил: «Говорите», — и я снова, будто подбодренная этим приказанием, находила нужные слова. Когда я в своем рассказе дошла до того, как забрала у Клавьера тысячу ливров и держала пистолет у него перед лицом, у принца побелели даже губы, он резко, гневно вскочил, прошелся по террасе, и его руки, заведенные за спину, были сжаты в кулаки. Потом сдавленно бросил через плечо:
— Черт возьми, и вы, имея этого мерзавца в руках, не выстрелили?