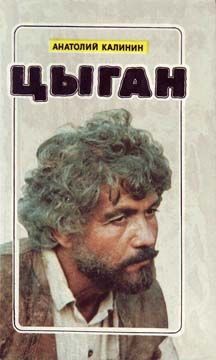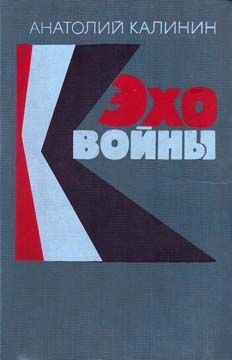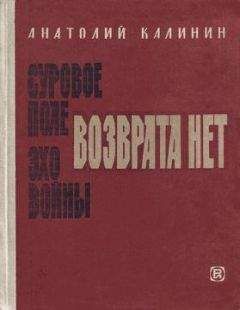Наталья Калинина - Любимые и покинутые
Устинья не знала, что ответить на этот вопрос. Она не блистала глубокими познаниями ни Старого, ни Нового Заветов, она молилась Богу, воспринимая его существование как нечто само собой разумеющееся. Часто думала о грехе, по мере возможностей старалась не грешить, не делать сознательно зла ближнему и даже дальнему. Страдать она никогда не хотела, хоть страданий выпало на ее долю немало. Да и кто хочет страдать? И в то же время в словах Толи скрывалась какая-то мудрость, правда, не до конца еще ею постигнутая. Она ответила:
— Без страданий на этом свете не прожить. Детей и тех рождаешь в муках и страданиях.
— Но ведь тебе не хочется, чтобы я страдала, правда? Устинья, неужели тебе хочется, чтобы я страдала?
Глаза Маши стали большими и удивленными и из них готовы были в любой момент брызнуть слезы.
— Нет, моя коречка, — сказала Устинья. — Я сама готова принять за тебя все муки, но…
— Не хочу никаких «но»! — все больше и больше распалялась Маша, уже не слыша того, что ей говорила Устинья. — Я не буду, не буду страдать, а вы, если хотите, страдайте, сколько вам влезет. А я… я…
Она бросилась вниз по лестнице к пляжу.
Устинья тут же вскочила, чтоб бежать за ней, но Толя сказал:
— Не надо, тетушка. Мане лучше побыть одной. Она уже большая и умная и может все понять сама.
Устинья осталась, то и дело бросая тревожные взгляды в сторону моря. Отсюда сквозь редкие ветки сосен была видна его невозмутимо переливавшаяся под солнцем гладь и ведущая на пляж тропинка. Маши на этой тропинке не было, и это очень беспокоило Устинью. Она не хотела, чтобы Маша пошла одна на гору — хоть дом отдыха и охранялся вооруженными стражами в штатском, поговаривали, что на его территорию частенько проникают жители местных поселков — абреки — как называл их обслуживающий персонал. Якобы несколько лет назад с территории дома отдыха похитили молодую девушку и ее кавалера, тела которых, обглоданные до неузнаваемости шакалами, потом нашли в ущелье. Вполне возможно, что это была всего лишь легенда, выдуманная самим же обслуживающим персоналом для того, чтобы отдыхающие не слишком куролесили после отбоя, ибо многие питали страсть обрывать клумбы и ломать кустарники. Как бы там ни было, Устинья побаивалась отпускать Машу далеко от себя даже днем.
— Я сам пойду и найду Маню, — сказал Толя, заметив беспокойство Устиньи. — Не бойтесь, тетушка, никто не увидит моих струпьев — я надену соломенную шляпу.
Не успела Устинья возразить либо согласиться, как Толя сбежал по ступенькам веранды и скрылся среди кустов.
Толя обнаружил Машу в старой беседке, куда редко доходили отдыхающие — высокая деревянная лестница, ведущая к ней, шаталась и готова была завалиться от одного-единственного неверного шага. Маша сидела на лавке, обхватив тонкими загорелыми руками свои острые коленки и смотрела вдаль.
— Прости, что я нарушил твои размышления, — сказал Толя, садясь на соседнюю лавку. — Наверное, ты сейчас думаешь о том, что кроме Бога меня в этой жизни ничего не интересует и не волнует.
Маша молчала, отвернувшись от него.
— Меня многое интересует и волнует, — продолжал Толя. — Природа, странные и подчас необъяснимые поступки людей, наше с тобой знакомство. И то, что мы оба носим фамилию Соломины. Мне почему-то кажется, что все это не случайно.
Маша молчала, но ей уже становилось интересно. Тем более, она сама часто думала о том, что между ними существует какое-то родство. Под словом «родство» она подразумевала не состав крови, текущей в их жилах, а нечто другое, более символичное, а потому и более крепкое. В юном возрасте символичность хочется видеть во всем, даже в привычном движении солнца и луны по небосклону.
— Мой отец погиб на фронте, — продолжал Толя. — Он был очень хорошим человеком. Мама любила его всю жизнь. Она говорила мне, чтобы я никогда про него не забывал. Показывала его фотографию. Но она куда-то делась, когда маму забрали в тюрьму. Наверное, ее бабушка сожгла — правда, я не знаю зачем.
— Твою маму посадили в тюрьму? — изумилась Маша. — За что?
— За Бога. Но она все равно от него не отреклась. Она умерла с именем Господа нашего Иисуса Христа на устах — мне так сказала бабушка.
— За Бога? Но разве за то, что веришь в Бога, могут посадить в тюрьму? Устинья тоже верит в Бога и… бабушка моя тоже, но ведь их не сажают в тюрьму, — рассуждала Маша.
— Я не знаю, почему посадили маму — она была очень добрая и всем всегда помогала. Она работала в детском садике на кухне. Я был тогда совсем маленьким, она сажала меня в большую плетеную корзинку и ставила ее возле печки. Там было тепло и много хлеба. Я очень люблю хлеб. А ты?
— От хлеба толстеют, а у балерины должна быть идеальная фигура.
— Она у тебя очень красивая, — вдруг сказал Толя. — Я видел случайно, как ты упражнялась возле стенки в трико и пуантах. Я глаз не мог от тебя оторвать — так это было красиво.
— В пачке еще красивей. Я обязательно станцую тебе «Умирающего лебедя» Сен-Санса. На пляже, когда будет светить луна. Правда, придется танцевать без музыки, но ведь ты наверняка знаешь музыку Сен-Санса, да?
— Нет. Я вообще не знаю никакой музыки, кроме той, что мы поем, когда молимся. У нас нет дома радио.
— Почему? — удивилась Маша.
— Не знаю. Тетя Капа говорит, что по радио выступают антихристы.
— А что это такое?
— Это противники Христа. Черти. Тетя Капа говорит, что в нашей стране власть принадлежит антихристу.
Маша рассмеялась. Все сказанное Толей было столь странно и непонятно, что было бессмысленно задавать какие бы то ни было вопросы. Она только сказала:
— Но Сен-Санс не был антихристом — я точно это знаю. У него такая красивая музыка. Под нее невозможно сидеть на месте. — Она вскочила с лавки, встала на пальчики, расправила трепещущие руки-крылья и запела. И точно по мановению волшебной палочки беседка превратилась в озеро, а она сама стала прекрасным белоснежным лебедем, умирающим в тот самый момент, когда больше всего хочется жить.
Толя глядел на нее не просто восхищенным взглядом — так глядят на чудо Господнее, ниспосланное с небес на грешную Землю. Толя вдруг понял — душой, а не разумом, ибо разум его был устроен так, что умел постигать лишь божественные вещи, вещи же мирские он не понимал и, не понимая, на них не задерживался, — что эта девочка воплощает собой столько счастья, роднящего его с этим бренным миром. Что и плоть может быть прекрасна, одухотворенна. Увы, он пока еще не был знаком с миром музыки, возвышающим человеческую плоть до слияния с духом. Но и того, что ему сейчас открылось, он вынести не мог. Закрыв ладонями глаза, Толя кинулся вниз по лестнице, забыв про вполне реальную опасность оказаться в колючках барбариса.
…Маша гребла изо всех сил — она должна попасть в ту пещеру еще до того, как взойдет солнце. Она боялась прозевать это торжественное и пышное зрелище, которое хотела встретить вдалеке от привычной домашней обстановки.
Вытащив лодку на берег и привязав к торчащему между скалами тонкому кустику, Маша стала карабкаться наверх, царапая коленки и ладони об острые выступы камней. Вход в пещеру был довольно высоким — выше, чем ей показалось издалека, с плывущего вдоль берега катера, — и ей даже не пришлось наклонять голову. Внутри было просторно, шаги будили гулкое, тревожное эхо, гладкий ровный пол напоминал круглую сцену. Маша встала на пальчики, подняла руки над головой и тут же увидела упругий край солнца, которое словно кто-то выталкивал из-за горизонта. Из ее груди вырвался восторженный крик, колени подогнулись, и она опустилась на холодные камни. Потом вскочила, и большой солнечный диск, выплывающий из неведомых глубин холодного космоса, стал свидетелем самой что ни на есть дикой пляски, которая продолжалась минут двадцать. Потом Маша рухнула на пол, распластавшись на нем лицом вниз и испытала настоящий экстаз. Она еще не знала, как называлось то чувство, испытывая которое хотелось плакать, смеяться, кричать, стонать от боли и восторга.
Она сдернула с себя сарафан, купальник и снова стала танцевать. Только теперь танец ее был плавным, спокойным, в нем звучал призыв к кому-то неведомому разделить охватившие ее чувства и тем самым умножить наслаждение.
Маша, можно сказать, еще ни в кого не влюблялась. В их классе учились только девочки — то было время экспериментов с раздельным и смешанным обучениями, потом к ним прислали из мужской школы четверых подростков, неряшливых, неразговорчивых, туповатых. У одного на руках даже были бородавки. Разумеется, существовали киноартисты и герои любимых книг, но возникавшее к ним чувство было уж больно скоротечно — до нового фильма или книги. К тому же в любви подобного рода Маше приходилось исполнять сразу две роли, и это быстро истощало силы.
Увидев Толю, она не почувствовала ничего, кроме жалости, к этому худенькому больному ветрянкой мальчику-сиротке. Он был почти на два года старше ее, уже мужал его голос, раздавались вширь плечи. Но Машину женственность могла пробудить не мужская сила, признаки которой она пока еще не умела ни различить, ни почувствовать, а искусство и красота, что, впрочем, для нее всегда было синонимами. Толя не был красив в обычном смысле этого слова, к тому же был застенчив и по-провинциальному робок, но в том, как он иной раз говорил об Иисусе Христе, Деве Марии, Святом Крещении, ей чудилось что-то сродни искусству, музыке даже, ибо в это время лицо Толи преображалось, становилось одухотворенно страстным, и Маша не могла отвести от него глаз.