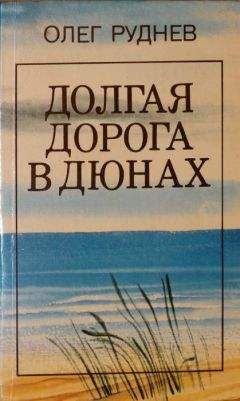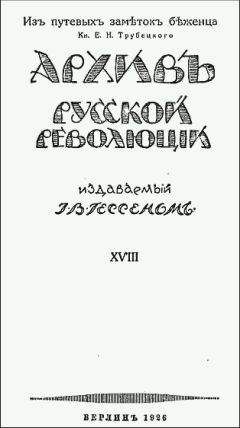Олег Руднев - Долгая дорога в дюнах-II
— Brot… Хлеб! Ти понимаешь, русский швайн?
Конечно, мы понимаем, и что такое «швайн», и что такое «капут»… Петька пытается втолковать солдатам, что хлеба нет, но те упорно не верят. Им просто кажется невероятным, что в доме, где так пахнет, нет хлеба. Один из них встает, берет свой шмайс и направляет на Петьку.
— Ich werde schissen![4] — Он тут же уточняет по-русски: — Пу-пу!
Петька делает широкий жест рукой и предлагает:
— Найдите хоть крохотку!
Естественно, немцы ничего не понимают, но Петькин жест их почему-то успокаивает. Тот, что сидит за столом, говорит своему напарнику какие-то слова, и он недовольно опускает оружие.
Солдаты начинают шарить по комнате. Они буквально расшвыривают все, что попадается им под руку. Они ищут, и, по мере того как приближаются к углу, из которого Петька всегда выносит свои харчи, мне становится все жарче и жарче. Ведь если найдут…
Я гляжу на Петьку и удивляюсь: он совершенно спокоен. Гитлеровцы ничего не находят, от злости швыряют в печку нашу книгу и, погрозив на прощание кулаком, уходят.
Мы долго молчим, затем я тоже собираюсь домой. Колени дрожат, язык не хочет слушаться, но я все же говорю другу:
— Ты бы поосторожней! Ведь найдут — не поздоровится.
Петька по-прежнему спокоен, только очень бледен.
Он смотрит на меня все тем же странным взглядом и угрюмо выдавливает:
— Не найдут. А найдут… — Он не договаривает, отворачивается и тихо заканчивает: — Что же сделаешь…
И все-таки только я один знаю, какой он Буржуй. Это было весной, незадолго до ухода оккупантов. Мне срочно нужно было повидать Петьку, передать какую-то новость. В доме я никого не нашел и вышел на улицу. Во дворе тоже вроде никого не было, и я уже совсем собирался уйти, как вдруг где-то за сараем мне послышался Ванюшкин голос. Решив пошутить, я тихо подкрался к сараю и осторожно выглянул из-за угла. Я как выглянул, так и остался стоять с открытым ртом.
Петька сидел на корточках и складывал в казанок мясо, а рядом лежала только что содранная собачья шкура. В том, что шкура собачья, сомнений быть не могло, потому что тут же лежала голова какого-то Полкана.
Петька, видно, почувствовал мой взгляд и резко обернулся. Я впервые увидел его таким растерянным, даже капельки пота выступили ка лбу. Он встал, потоптался, зачем-то прикрикнул на Ванюшку, который ничего не сделал, набросил на казанок тряпку и, глядя куда-то в землю, сбивчиво заговорил:
— Ты это… Никому… Ладно? — Он замолчал, пошевелил губами, словно отыскивая нужные слова, и вдруг заволновался: — А что делать? Что? Как Настя, да? Как Настя?.. — Он прижал к себе младшего братишку и все повторял и повторял, как в бреду: — Как Настя… Как Настя…
А вообще Петька научил нас не умирать от голода. Мы не брезговали ни ховрахами[5], ни воронами, ни воробьями, и чего мы только не ели в ту последнюю оккупационную зиму и весну! Ховраха сваришь, так лучше любой курицы, а печеные на углях воробьи — так и за уши не оттянешь.
Глава 10
Вот такой он у нас, Буржуй! Мы доедаем кавуны, Петька добрую половину оставляет, это для Ванюшки с отцом. Мы делаем то же самое и начинаем хрустеть яблоками. Хрустим до тех пор, пока не набиваем оскомину. Встаем, собираем то, что осталось. Осталось много, никак не можем все забрать. Как же это в саду мы сумели так нагрузиться? Наконец, растопыренные и перекособоченные, выходим из блиндажа и с удивлением смотрим на посеревшее небо. Получим дома, ох, получим.
Но осталось последнее, самое приятное, и мы его сделаем, пусть нас хоть поубивают. Надо разнести яблоки по дворам, по всей нашей улице. Зачем? А куда ж столько съесть? Мы вон полчаса похрустели — и то брюхо, как барабан. Про запас? На всю жизнь не напасешься. Петькин батька говорит: «Чем больше отдашь, тем больше сам получишь!..» Вон Вакуленчиха… Бывало, идет — кажется, сало сзади капает. Померла — никто не знал. Стащили с постели, а там деньги. Много до ужаса. И советские, и немецкие… А зачем?
Нет, мы знаем одно: достал — поделись. Смотришь, и тебе достанется.
Мы разносим яблоки. Кладем — кому на порог, кому на подоконник… То-то будет утром радости!
Возвращаемся домой. Я открываю калитку, тихо подкрадываюсь к окну. Если форточка открыта, все в порядке. Открыта. Просовываю в нее руку, нащупываю шпингалет, поворачиваю, распахиваю окно и спрыгиваю в комнату. Спрыгиваю и останавливаюсь перед матерью.
Даже в темноте видно, как блестят у нее от слез глаза. Она берет меня за плечи и начинает трясти так, что у меня из-за пазухи выскакивают яблоки. Я знаю: это у нее истерика. Конечно, мать переживает, это ясно. Но что я могу сделать? На пороге появляется бабушка, тоже не спит. И вот ведь какая штука: предупреди их заранее, что приду поздно, да еще расскажи, что мы собираемся делать, — не пустят ни за что. А как не пойти, кто за нас все это сделает? Мать трясет меня и приговаривает:
— Что ж ты, проклятый, делаешь? Сердце у тебя или каменюка?
Я знаю, что в этих случаях лучше молчать. Быстрее успокоится. Хорошо Петьке: его некому трясти. Мать потихоньку приходит в себя, снимает с моих плеч руки, поворачивается и собирается уходить. Но в это время наступает на яблоко и чуть не падает.
Зажигают свет. Я стою, как чумичка, растопыренный фруктами, гляжу на мать синими фингалами и рассеченной губой и не знаю, куда деть свои в кровь изодранные руки. Мать с бабушкой испуганно ойкают, бабуля при этом даже крестится, отступают и чуть ли не в один голос спрашивают:
— Воровал?
Вот это уже меня оскорбляет, и я обиженно выбрасываю:
— Мы ж у Поляковых…
Мать насмешливо щурит глаза:
— И Поляковы тебе их подарили?
Я сбиваюсь с толку. Мы всегда считали, что взять у Поляковых — это не воровство. Я так и говорю. Мать смотрит на меня осуждающим взглядом и уточняет:
— А как же это называется?
Я моментально отвечаю, как учил Петька:
— Это называется — отобрать у спекулянта награбленное.
Здесь не выдерживает моя бабушка. Она долго шамкает от возмущения губами.
— Это как же понимать? Спекулянт награбив, а ты у того украв? Ты-то кто после усього?[6]
— Не украл, а отобрал награбленное, — упорствую я и поясняю: — Не для себя, а для всех. Мы ведь…
Я называю тех, кому отдали яблоки. По мере того как растет число фамилий, глаза у матери и у бабушки раскрываются все шире и шире. Мать наконец не выдерживает и спрашивает:
— Так вы что, весь сад?..
Я торопливо успокаиваю:
— Не, что ты, там еще осталось…
Мать садится на табуретку и смотрит теперь на меня уже совсем другими глазами. Вероятно, она пытается понять: воровство это или не воровство?
К какому выводу приходит мать, я не знаю. Я слышу только то, что должен был услышать:
— Больше со двора ни шагу!
Мать встает, круто поворачивается и идет к кровати. Хоть полчаса поспать до работы. А я начинаю выкладывать яблоки. Когда заканчиваю разгрузку, бабушка заставляет меня вымыть руки, что я делаю с большой неохотой — устал до чертиков, — и приглашает к столу. Да, пожрать сейчас в самый раз. Я проглатываю один кусок хлеба, съедаю второй и только тут замечаю, что на тарелке есть и третий. История повторяется каждый день. Вначале я съедаю свою порцию, затем мать и бабушка подкладывают мне свои кусочки. Нехорошо, конечно, надо бы веем поровну, но есть так хочется, что я не в состоянии думать и ем.
Я засыпаю тут же за столом. Почти не чувствую, как бабушка с матерью перетаскивают меня на кровать, как снимают ботинки, укрывают. Откуда-то издалека доносится имя «Кармелюк»[7], слышится женский смех, но я не знаю, наяву это или во сне.
Просыпаюсь поздно. По тому, как в комнате жарко, догадываюсь, что времени уже много. Сижу, соображаю и вдруг начинаю волноваться: кто в магазин бегал, кто огород поливал, кто печку растапливал, кто таскал воду в кадушку?.. В комнату заходит бабушка. Она держится за поясницу и кряхтит: ей просто некогда.
Бабушка смотрит на меня строгими глазами, она как-то очень смешно сдвигает брови к переносице и думает, что это получается очень строго, садится на край кровати и вполголоса начинает:
— Поляков с утра бигае по улици, яблоки шукае[8]. К нам уже два раза прибегав, тэбэ усе допытывався. — Она опасливо косится на дверь и заговорщицки объявляет: — Так я их у печку сховала[9]. Давай, давай, смийся, пока нэ арэстують. Поляков вон от дружка твого Петьки так просто видчыпыться[10] нэ может, усе возле их двора крутыться.
Я мигом соскакиваю с постели. Но бабушка начеку. Она загораживает мне дорогу и торжественно объявляет:
— Мать приказувала: со двора ни шагу!
Я делаю страдальческое выражение лица и пытаюсь умилостивить старуху. Но все оказывается тщетно. Испробовав все дозволенные и недозволенные средства, я безнадежно машу рукой и соглашаюсь с приговором — ни шагу, так ни шагу. Выхожу во двор и слоняюсь без дела. Конечно, дня три карантина теперь обеспечено точно. Теперь ни я ни к кому, ни ко мне никто.