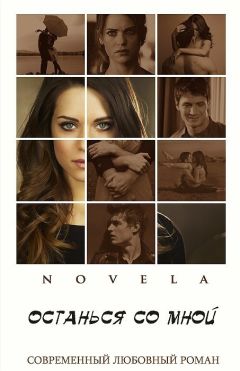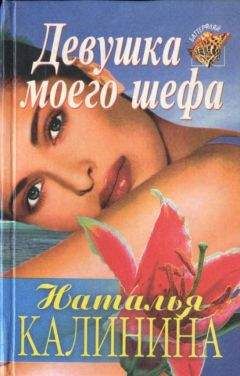Наталья Калинина - Останься со мной навсегда
Он всегда прислушивался к ее советам… Правда, был случай, когда не меньше четверти часа она убеждала его купить роскошный белый пиджак, в котором он был красив, как картинка из модного журнала. Он упрямился, говорил, что ему вообще не нравятся атласные пиджаки, но потом все-таки поддался на ее уговоры.
Когда магазины закрылись на обеденный перерыв, они просто катались по городу. Ранние декабрьские сумерки уже начали заволакивать небо, с которого неторопливо падали снежные хлопья. Рождественские елки на углу улиц и на площадях заманчиво поблескивали разноцветными гирляндами, напоминая о приближающихся праздниках. Рим был очень красив сегодня. Он больше не был вечным городом — он был городом-ребенком, с нетерпением ожидающим обещанный праздник.
— Я заеду за тобой в восемь, — сказал Марко, сворачивая в сторону ее пансиона. — Кстати, я уже придумал, где мы будем ужинать. Я знаю один симпатичный ресторанчик на улице Гарибальди — там отменно кормят. Тебе нравится итальянская кухня?
— Мне очень нравится итальянская кухня, только я не хочу ужинать в твоем ресторанчике на улице Гарибальди, — ответила она. — У меня уже есть на примете другое место.
— Что же это за место?
Констанс улыбнулась собственным мыслям, подумав, что тот, кто назвал жизнь театром, был тысячу раз прав. Она всегда была марионеткой в руках судьбы, плыла по течению и пассивно покорялась обстоятельствам — но сегодня она впервые почувствовала себя режиссером собственной жизни.
— Помнишь ту маленькую площадь с фонтаном, на которой мы встретились в тот день? Там на углу есть пиццерия. Я хочу поужинать сегодня в той пиццерии.
— Ты помнишь это место?
Габриэле остановил свою «мазерати» на маленькой площади с шумящим фонтаном в центре и повернулся к Веронике. Она посмотрела на фонтан, потом окинула взглядом дома, окружающие площадь.
— Конечно, помню, — сказала она, к его великой радости и удивлению, и широко улыбнулась.
Распахнув дверцу, она вылезла из машины и направилась к фонтану. Он последовал за ней, внимательно наблюдая за ее реакцией. Она шла медленно, озираясь по сторонам, словно хотела по каким-то приметам удостовериться, что это место действительно ей знакомо. Мелкие крупицы снега сыпались с бархатисто-черного неба и таяли в ее длинных волосах… Снег в Италии — редкость, но сегодня Рим встретил их снегом. Может, это для того, чтобы Вероника почувствовала себя, как дома? Ведь у себя на родине она привыкла к снегопадам в преддверии Рождества.
Подойдя к фонтану, она подставила руки под его струи, поблескивающие в бликах голубоватого света от вывески пиццерии на углу площади.
— Ты простынешь, Вероника. Сегодня очень холодный вечер, — сказал он, дотрагиваясь до рукава ее белой пушистой шубы.
Она обернулась к нему, и в ее взгляде он увидел уже знакомый ему лихорадочно-радостный блеск.
— Не называй меня Вероникой сейчас, ладно? Я сейчас — Констанс.
Он тихо застонал и закрыл глаза. Почему? Почему она снова утверждает, что она — Констанс? Ведь это было их местом. Здесь они были в тот первый вечер — в тот удивительный вечер, с которого началась сказка их любви. Эта площадь с фонтаном не имела никакого отношения к ее матери и к тому, что было у него с ней четверть века назад. Хотя… в самом ли деле не имела?
Он напряг память, пытаясь припомнить, бывал ли он здесь с Констанс. Но разве возможно это вспомнить? С тех пор прошло столько лет, и она в его жизни была лишь эпизодом… Он открыл глаза.
— Ответь мне на один вопрос, Вероника: твоя мама описывала в своем дневнике это место?
Она удивленно приподняла брови, не сводя с него своего сверкающего одухотворенного взгляда.
— Дневник? Ты имеешь в виду тот дневник, который нашли во время раскопок? Но я не знаю, Габриэле, что в нем написано. Я его не читала.
Он вздохнул, однако отметил про себя: она помнит о раскопках, что большой плюс. Ведь раскопки имеют отношение к ее собственному прошлому, а не к прошлому ее матери. А вообще странно, что из всего ее прошлого, которое она начисто забыла, в памяти Вероники сохранилась именно эта единственная деталь: раскопки.
— Пошли ужинать, Вероника, — сказал он, поняв, что сейчас совершенно бесполезно пытаться выяснить, какие именно ассоциации вызвала у нее эта площадь с фонтаном. — Джимми уже проголодался. Он очень соскучился по бифштексам с кровью — а мы с тобой соскучились по верху от пиццы, ведь так?
— Я же просила тебя не называть меня Вероникой сейчас, — обиженно проговорила она, сделав ударение на слове «сейчас». — Назови меня Констанс. Пожалуйста, назови меня Констанс — я очень прошу тебя об этом.
Эта настойчивость была чем-то новым в ней. Раньше она называла себя Констанс, когда люди спрашивали, как ее зовут, и сердилась, если он пытался это опровергнуть. Но еще не случалось, чтобы она попросила его назвать ее так. Ей было, насколько он понял, все равно, как он ее называет, лишь бы он не обращался к ней по имени. И он, не желая ее сердить, называл ее именами, которые подсказывала ему фантазия, пока несколько дней назад она сама не сказала ему, что он может называть ее Вероникой.
А теперь она требовала, чтобы он назвал ее Констанс. Нет, не требовала — просила… В тот день, когда он забрал ее из клиники, он твердо решил, что будет исполнять каждое ее желание, каждый ее каприз, чего бы она ни захотела. Но одного он никогда не станет делать: он никогда не станет помогать ей утвердиться в своем самообмане, он ни за что не назовет ее именем ее матери, как бы она его об этом ни просила.
— Я не собираюсь называть тебя чужим именем, — решительным тоном заявил он, беря ее руки в свои. — Ты Вероника, и я так и буду тебя называть. Потому что я люблю Веронику и хочу, чтобы рядом со мной была Вероника и никакая другая девушка. И мне совершенно все равно, нравится тебе твое имя или нет. Если оно тебе не нравится, предъявляй претензии своим родителям, а не мне, — это они назвали тебя так. Когда я встретил тебя, тебя уже звали Вероникой.
— Мои родители… — задумчиво проговорила она. — А… где мои родители? И кто они?
Этот вопрос застал его врасплох. Он не знал, где сейчас Констанс, и не знал, как он поступит, если Вероника пожелает встретиться с матерью. Констанс повела себя как-то странно… В течение первых двух месяцев, что они провели в Полинезии, она звонила ему чуть ли не каждый день, чтобы справиться о состоянии здоровья Вероники. Он даже думал, что она осталась в Риме, надеясь, что рано или поздно они вернутся сюда и она повидается с дочерью. Но потом она вдруг канула в неизвестность… Когда он позвонил в отель, где она проживала, ему сказали, что миссис Грин выехала оттуда в конце октября и не оставила адреса, по которому ее можно было бы найти.
Со слов Эмори, который продолжал регулярно созваниваться с ними, он знал, что Констанс решила обосноваться в Риме… Но почему она больше не давала о себе знать? Неужели ее не интересовало состояние дочери? Может, она потеряла надежду на ее выздоровление и была настолько замучена угрызениями совести, что даже не находила в себе сил позвонить ему и спросить о Веронике? Вполне возможно, что так оно и было. Ведь Констанс не верила в то, что Вероника когда-то станет прежней, и Эмори, кстати, тоже не верил. Габриэле был единственным, кто верил в это.
— Твоих родителей зовут Эмори и Констанс Грин, — ответил он. — Твой отец живет в Нью-Йорке, он бизнесмен, и у него есть фабрика по производству зеркал. Наверное, ты потому так любишь зеркала… — Он улыбнулся, надеясь, что она оценит его шутку, но ее лицо было очень серьезным. — Отца ты должна помнить — он навещал тебя, когда ты лежала в клинике.
— Да-да, я помню, — Вероника кивнула. — Это тот седой мужчина, который приходил каждый день в мою палату и говорил мне, что он — мой отец… Я не знала, правда это или нет, но соглашалась с ним, потому что не хотела его огорчать. Он был такой грустный… — Она на секунду умолкла и нахмурила брови, словно ища ответ на какой-то свой вопрос. — И ты тоже был тогда очень грустный, — сказала она. — Почему, Габриэле?
— Потому что ты была больна, — ответил ей он, и она снова кивнула.
— Я знаю, — прошептала она, отводя взгляд.
Это «я знаю» прозвучало как-то очень серьезно, и он задумался над тем, что именно она знает о своей болезни. Только ли то, что сказал ей об этом он — что у нее было легкое психическое расстройство и она страдала головными болями, или… Нет, нет, она не могла знать того, что сказали врачи. Тем более что это все равно было неправдой.
Это не могло быть правдой — он слишком хорошо помнил ту девушку, которая в теплый майский вечер стояла вместе с ним на этой самой площади, любуясь домом с маленьким садиком, разбитым прямо на крыше, и с порослью дикого винограда, ниспадающей на окна верхнего этажа. Это было чуть больше полугода назад. Та девушка поразила его тогда своим умом и умением логически мыслить, поразила настолько, что он, слушая ее рассуждения, забыл на какое-то время о желании, обжигающем его изнутри… А потом она сказала, что верит в целостность сознания и материи, — и он понял, что она сказала это не случайно.