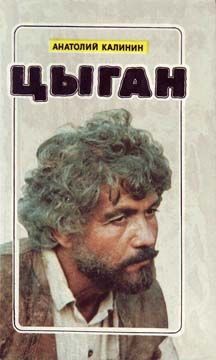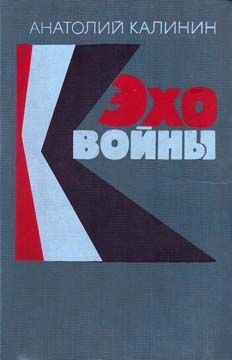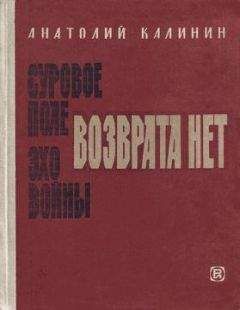Наталья Калинина - Любимые и покинутые
Она сказала это не бледному лицу, которое показалось в окне — слова сказались сами, потому что так хотели ее губы, язык, голосовые связки.
Лицо в окне исчезло. Через минуту на крыльце появилась женщина в ночной рубашке и в накинутом на плечи мужском пиджаке.
Маша закружилась, развевая широкую голубую юбку. Потом захлопала в ладоши и собралась кинуться женщине на шею и прижаться к щеке, потому что так хотели ее ноги, руки, пальцы, кожа. Но остановилась на полпути к крыльцу, встретившись с недоуменным взглядом незнакомых глаз, покачнулась и упала на дорожку.
В тридцать девятом Маше было пятнадцать. Семья профессора Богданова жила в центре Москвы, в одном из переулков близ Большой Никитской, в отдельной квартире с высокими потолками и эркером. По тем скудным на бытовые удобства временам квартира казалась чуть ли не дворцом. Богдановым завидовали соседи: дом был сплошь в коммуналках, и в квартире размера и планировки богдановской жило по три, а то и по четыре семьи.
Но Сергей Сергеевич Богданов заведовал кафедрой математики в большом техническом вузе, вел несколько аспирантов — среди них были влиятельные люди, родственники крупных партийных и хозяйственных работников, — консультировал в закрытом конструкторском бюро. И жильцы дома вежливо здоровались с этим всегда чисто выбритым и безупречно одетым человеком высокого роста с кожаным портфелем под мышкой, хоть кое-кто из них называл его за глаза «недобитым буржуем», «гнилым интеллигентом» и даже «осколком империи». Жильцы не вкладывали в эти выражения никакого зловещего смысла — просто эти слова были у всех на языке: ими пестрели страницы газет, их повторяли многословные ораторы на производственных собраниях. Словом, они прочно и, казалось, навсегда вошли в лексикон наших соотечественников.
Маша училась в школе в соседнем переулке, легко переходя из класса в класс. Она увлекалась гуманитарными науками, с удовольствием и блеском сдавая их чуть ли не за весь класс (тогда существовал бригадный метод), все остальные предметы не любила, хоть и давались они ей без труда. Мать с детства обучала ее французскому и музыке — Анастасия Кирилловна закончила Московскую консерваторию по классу фортепьяно, знала лично Рахманинова (об этом в ту пору лучше было молчать). Сергей Сергеевич тоже очень любил музыку, но не был большим ее знатоком. Тем не менее всем семейством ходили в Большой театр и на концерты в консерваторию. Профессор Богданов, слушая музыку, отдыхал душой и телом. Маша же, напротив, мучительно сопереживала ей. Она росла худым и болезненным ребенком, однако врачи не находили в ней никаких физических недугов. Анастасия Кирилловна считала, что Маша унаследовала от бабушки по материнской линии истеричность и душевную неуравновешенность. (Мать Анастасии Кирилловны была известной драматической актрисой, в сорок лет покончившей с собой из-за несчастной любви. Факт этот, разумеется, тщательно скрывался всеми Бусыгиными, похоже, даже Сергей Сергеевич о нем не знал.) Однако, что касается дедушки, с ним все обстояло вполне благополучно — он был крупным ученым-востоковедом и два года назад умер спокойной смертью в своей постели и в окружении скорбящих родственников.
Маша безумно любила отца, помимо всего прочего, еще и за то, что он называл ее не иначе как «моя юная леди», и хоть это обращение носило несколько шутливый оттенок, Маша на самом деле привыкла думать о себе как о леди. Отец, а еще музыка и любимые книги, позволяли ей не замечать весьма далекой от совершенства действительности. Маша жила в своих наивных девичьих грезах, подпитываемых музыкой, долгими уединенными общениями с природой (у Богдановых была дача в Малаховке), нежной и возвышенной любовью родителей, в особенности отца. Мать Машу тоже любила, но это было более прозаичное и приземленное чувство — с Анастасией Кирилловной они сталкивались на каждом шагу и обе обладая сильными, хоть и разными, характерами, нередко образовывая диссонанс. С отцом же Маша общалась не часто, да и от повседневных сугубо бытовых проблем Сергей Сергеевич был весьма далек. К тому же в отце было что-то загадочное. Маша поняла это когда в ней исподволь начало пробуждаться и рваться на волю женское начало.
К Богдановым часто захаживали молодые люди — студенты и аспиранты Сергея Сергеевича. Анастасия Кирилловна почти всегда оставляла их пить чай с пирогами и домашним вареньем. Домработницы у Богдановых не задерживались, ибо Анастасия Кирилловна поначалу их баловала, потом, когда они окончательно садились ей на шею, со скандалом, сопровождаемым горькими слезами обиды, выпроваживала за дверь. А потому нередко приготовление еды и мытье посуды ложились на плечи хозяйки дома. Она очень уставала, становилась раздражительной, но никак не могла отказать себе в удовольствии усадить за щедрый хлебосольный стол молодых людей и при этом, как бы походя, блеснуть своей интеллигентностью и безупречными манерами.
Маша вела себя очень раскованно со всеми молодыми людьми — превратившись внешне во взрослую девушку, она осталась в душе ребенком, и эта ее ребячливость сообщала ей смелость и искренность в общении. Она с удовольствием садилась за рояль, играя и Чайковского, и Бетховена, и собственного сочинения попурри на любимые в те годы песенки. Отец очень любил старинные русские и цыганские романсы и, слушая патефон, закрывал левой ладонью лицо. Маша знала на память все романсы из домашней фонотеки. Она вдруг запела в двенадцать. В пятнадцать пела так, что все студенты и аспиранты Сергея Сергеевича Богданова были тайно в нее влюблены. Анастасия Кирилловна не поощряла увлечение дочери «цыганским надрывом» — она считала это дешевкой и трактирщиной, и хотела, чтобы дочка по-настоящему занялась серьезной музыкой, благо были у нее к тому немалые способности. Но Маша не любила часами долбить одни и те же пассажи — музыка от этого теряла для нее всю прелесть и таинство, раскрывая свою кропотливо созданную изнанку. Маша много играла по памяти, редко и с неохотой разучивая те пьесы, которые ей подсовывала мать, желавшая, чтобы дочь избрала музыкальную карьеру. Маша ни о какой карьере не думала, ибо, как и все романтики, мечтающие о чем-то заведомо несбыточном, жила сегодняшним днем и в мечтах. Жизнь ее баюкала, усыпляя ощущение реальности.
Сергей Сергеевич любил за столом обменяться мнениями с молодежью по поводу текущих событий. Он не скрывал своего ироничного отношения к кое-каким мелочам советской действительности, однако, соприкасаясь с нею вплотную лишь изредка, не имел возможности увидеть ее такой, какой она была на самом деле, а потому дальше насмешек дело не шло. Некоторые молодые люди улыбались, те, кто посмелее, вставляли свои реплики, как правило, одобрительные. Анастасия же Кирилловна перед сном всегда отчитывала мужа за «никому не нужную браваду», сравнивая ее с хождением по канату без страховочного пояса и сетки.
— Кто-нибудь обязательно доложит в энкэведе или процитирует где-нибудь без злого умысла, и тогда полетишь как миленький с работы. Что мы, спрашивается, есть будем? Бриллианты, как ты помнишь, ушли еще когда мы жили в Саратове, — (это было в гражданскую), — столовое серебро и хрусталь нынче не в цене. Изволь уж, как говорится, по-вольчьи выть, коль оказался в их стае.
— Ну уж нет, Стасечка, этого от меня никогда не дождешься. Лучше буду черный хлеб с солью есть, а им подпевать во всем не стану, — мягко, но решительно возражал Сергей Сергеевич.
— На черный хлеб тоже нужно заработать, — ворчала Анастасия Кирилловна. — Ну зачем тебе, спрашивается, душу перед ними нараспашку держать? Ты их наставник, профессор, руководитель, ты должен, чтоб они тебя уважали, приличную дистанцию соблюдать.
— Ты правильно, Стасечка, сказала — я их наставник. И не только что касается точных математических наук. Я должен их кругозор расширять, иначе из них получатся не ученые, а обыкновенные приказчики от науки: «что угодно-с», «честь имею-с», «готов к вашим услугам-с».
— Какая тебе разница, что из них получится? Может, как раз то, что им нужно, — не унималась Анастасия Кирилловна. — Сам же говоришь, что последнее время не понимаешь того, что творится вокруг, и живешь точно в чужой стране. У молодых-то, наверное, этого ощущения нет. Они знают, что хотят…
— То-то и оно, что не знают, — горячо прерывал жену Сергей Сергеевич. — Это какое-то растерянное поколение. Они напоминают мне разбредшееся по лугу стадо, которое пастухи сгоняют в одно место беспощадными ударами своего длиннющего кнута. Но ведь пастухов так мало, а нас… нас вся Россия.
— России больше нет, — возражала Анастасия Кирилловна и тяжело вздыхала. — Бог отступился от русских за то, что они отдали на растерзание варварам своего царя. Николай Второй был святой человек…
— Ну да, потому что в него были влюблены поголовно все институтки и консерваторки. — Сергей Сергеевич тихонько рассмеялся. — Блаженненьких на Руси всегда любили. А я считаю, что они-то и сгубили нашу родину. Твой любимый Николай умыл руки и сказал: «Я ни в чем не виноват, люди добрые, поступайте, как знаете», Россию же в это время тащили, чтобы распять на кресте. Ну чем не современный Понтий Пилат?