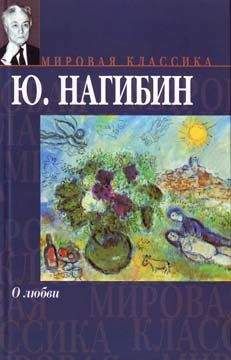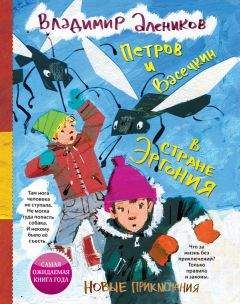Дэвид Лоуренс - Белый павлин. Терзание плоти
Летти вытирала кровь с его лица лоскутом, вырванным из нижней юбки. Она сказала:
— Он не умер… надо оттащить его домой… давай быстрей.
Я подбежал, оторвал дверцу от машины и уложил Лесли на нее. Ноги волочились по земле, но мы тащили его изо всех сил. Я старался поддерживать ему голову. Вдруг она попросила меня остановиться и опустить его на землю. Я подумал, что для нее это слишком тяжелая ноша. Но причина была в другом.
— Не могу смотреть, как его руки задевают кусты.
До дома оставалось еще несколько ярдов. Тут служанка увидела нас и кинулась в нашу сторону, потом ринулась обратно, точно испуганный чибис-пигалица от раненой кошки.
Мы дождались прихода доктора. На голове сбоку виднелась глубокая царапина. На щеке — порез, обычно такие оставляют шрам. Ключица сломана. Я сидел подле него, пока он не пришел в сознание. «Летти», — прошептал он.
Ему нужна была Летти, следовательно, ей придется оставаться в Хайклоузе всю ночь. Я отправился домой, чтобы рассказать все маме.
Уже лежа в кровати, я смотрел на освещенные окна Хайклоуза, и огоньки плыли ко мне сквозь туман по воде. Кедр темным часовым стоял перед домом. Ярко освещенные окна напоминали звезды. И, как звезды, ярко горели. Небо сверкало огоньками. Они слишком далеко, чтобы нам волноваться из-за них. Такие маленькие точечки, будто на самом деле и не существуют. Гигантская бездна дышала, клокотала над головой. А звезды — всего лишь искорки в неспокойном небе. Земля слушала нас. Она покрыла лицо тонкой вуалью тумана. Она грустила. Она нежно впитывала нашу кровь в темноте, горюя, и на свету ласкала нас и успокаивала. Здесь, на земле наши привязанности и надежды. А небо — это, по сути, ничто, обычное расстояние.
Коростель что-то кричал мне чрез долину, он все кричал и кричал со спящих, покрытых туманом лугов, засыпая меня вопросами и ответами. Этот монотонный голос, который еще прошлым летом казался таким приятным, таким романтичным, теперь был мне невыносим. Какофония ночи, и выделяющийся из нее странный голос рока, монотонно вещающий о чем-то во мраке.
Утром Летти пришла домой грустная. Спустя некоторое время за ней пришли снова, поскольку Лесли хотел ее видеть.
Когда вечером я отправился повидаться с Джорджем, тот находился в очень подавленном состоянии.
— Сейчас не совсем подходящий момент, — сказал я. — Тебе следовало быть понастойчивее и позаботиться о своих чести и достоинстве.
— Да… пожалуй, — сказал он в своей обычной ленивой манере.
— Я мог повлиять на нее… она была бы с тобой. Она не бросит его, пока он не окреп, а он женится на ней до этого. Ты должен был бы найти в себе мужество и рискнуть… ты всегда слишком осторожничаешь. Ты постоянно думаешь о своем плохом настроении, о дурных предчувствиях… и никогда не бросаешься в омут с головой, а зря. Ты бережешь свои чувства, но все равно что-то теряешь… Эх, жаль, что ты не смог.
— Понимаешь, — начал он, не поднимая глаз, и я посмеялся над ним.
— Продолжай, — сказал я.
— Ну… ведь она обручена с ним…
— О… ты считаешь, что слишком хорош для того, чтобы быть отвергнутым.
Он побледнел, а когда он был бледен, загар на его лице выглядел болезненно. Он смотрел на меня темными глазами, в которых застыло отчаяние, неподдельное отчаяние.
— Вот такой расклад, — закончил я, дав волю своему гневу, который мгновенно улетучился. Больше никакие мысли по этому поводу не возникали. Я перестал жалеть своего друга. Буря на море улеглась. Я успокоился.
Какое-то время Лесли был очень болен. У него обнаружили воспаление мозга, правда, в легкой форме, и лихорадку. Летти большую часть времени проводила в Хайклоузе.
Однажды в июне он лежал, отдыхая, в шезлонге в тени кедра, а она сидела рядом с ним. Это был солнечный знойный день, когда воздух неподвижен, когда он словно изнемогает от лени, и все вокруг выглядит таким апатичным и вялым.
— Тебе не кажется, дорогой, — вдруг заговорила она, — что нам лучше не жениться?
Он занервничал и приподнял голову. Бледное его лицо покраснело. Он выглядел озабоченным и задумчивым.
— Хочешь сказать, что нам лучше пока подождать с этим?
— Да… и может быть… не вступать в брак вообще.
— Ха, — засмеялся он, снова опустив голову. — Наверное, я начинаю выздоравливать, раз ты опять начинаешь мучить меня.
— Но, — сказала она, — я не уверена, что должна выходить за тебя замуж.
Он снова засмеялся, хотя и был озадачен.
— Ты боишься, что я теперь буду слаб головой? — спросил он. — Подожди месяц.
— Нет. Это как раз меня не беспокоит…
— О, не беспокоит!
— Глупый мальчик… Причина во мне.
— Вроде я никогда не жаловался на твой характер.
— Видишь ли… я бы хотела, чтобы ты оставил меня.
— Разве такой сильный мужчина, как я, не способен удержать тебя? Посмотри на мою мускулистую лапу! — он протянул руки, тонкие и бледные.
— Ты же понимаешь, что удерживаешь меня насильно… а я бы хотела, чтобы ты меня отпустил. Я не хочу…
— Чего?
— Вообще выходить замуж… позволь мне поступить по-своему, оставь меня.
— Чего ради?
— Ради меня самой.
— Хочешь сказать, что не любишь меня?
— Любишь… не любишь… я ничего об этом не знаю.
— Но я не могу… мы не можем… неужели ты не видишь?.. Ну, как это говорят… мы с тобой плоть от плоти. Почему? — прошептал он, словно ребенок, которому рассказали страшную сказку.
Она смотрела на него, лежащего в шезлонге, на его бледное, вспотевшее, испуганное лицо ребенка, который ничего не понимает, а лишь напуган и вот-вот заплачет. И тут ей на глаза навернулись слезы, она заплакала от жалости и отчаяния.
Это его встревожило. Он поднялся, уронив матрасик на траву:
— Что случилось, что случилось! О, Летти… это из-за меня?.. Я тебе не нужен?.. Так ведь?.. Скажи мне, скажи мне, скажи мне. — Он схватил ее за запястья, стараясь оторвать ее руки от лица. Слезы катились по его щекам. Она почувствовала, как он дрожит, звук его голоса насторожил девушку. Она поспешно смахнула слезы, выпрямилась и обняла его. Он уткнулся ей в плечо и по-детски всхлипывал. Так они плакали оба. Потом прекратили, устыдившись, что кто-нибудь может их увидеть. Она подняла матрасик. Заставила его лечь, устроила поудобней. То есть она нашла себе занятие. А он вел себя, как больной, капризный ребенок. Откинулся на ее руку и смотрел ей в лицо.
— Ну, — сказал он, улыбаясь. — Из-за твоих капризов нам трудно приходится. И что за удовольствие мучить меня, моя маленькая Schnucke?
Она приблизила свое лицо к нему, чтобы он не видел ее дрожащих губ.
— Мне бы хотелось стать снова сильным, кататься на лодке, ездить на лошади… с тобой. Думаешь, я окрепну за месяц? Стану сильней тебя?
— Я надеюсь, — сказала она.
— Я не верю тому, что ты говорила. Я верю, что нравлюсь тебе, ведь ты можешь прилечь рядом и погладить меня, правда, добрая девочка?
— Когда ты хороший, я все могу.
— Ну, тогда через месяц я стану сильным и женюсь на тебе, мы уедем в Швейцарию. Слышишь, Schnucke, ты не сможешь больше капризничать. Или ты снова хочешь уйти от меня?
— Нет… Только у меня рука затекла, — она вытащила руку из-под него, встала, повертела ею, улыбаясь, потому что было и впрямь больно.
— О, моя дорогая, прости! Я скотина, дурак, я скотина. Я хочу снова стать сильным, Летти, и больше никогда не поступлю так.
— Мой мальчик… ничего страшного. — Она улыбнулась ему.
Глава V
УХАЖИВАНИЕ
В один из воскресных вечеров во время болезни Лесли я отправился на мельницу и встретил Джорджа. Он шел через двор с двумя ведрами помоев, одиннадцать поросят спешили следом за ним, визжа от предвкушения еды. Он вылил пойло в корыто, и десять носов разом уткнулись в него. Десять маленьких ртов принялись чавкать. Хотя места для всех вполне хватало, они отпихивали друг друга и боролись за то, чтобы захватить побольше места. Маленькие ножки толкали корыто и расплескивали пойло. Все десять хрюшек хлюпали носами, двадцать маленьких глаз были налиты яростью. Они были злы. Несчастный одиннадцатый поросенок пытался сунуться к пойлу, но его отпихивали, зажимали, кусали за уши. Тогда он поднял рыльце и горестно завизжал, глядя в вечернее небо. Остальные десять поросят только навострили уши, чтобы понять, нет ли в этом звуке для них опасности, и снова начали чавкать, хлюпать, расплескивать пойло.
Джордж посмеялся, но в конце концов решил вмешаться. Пинками отогнал десять поросят от пойла и допустил к нему одиннадцатого. Этот маленький негодяй почти что всхлипнул с облегчением и, чавкая и рыдая, стал заглатывать пойло, подняв глазки вверх, при этом не обращая внимания на отчаянный визг остальных десяти, которых отгонял от пойла Джордж. Этот едок-одиночка опустошил корыто, потом поднял к небу глаза с выражением благодарности, преспокойно отошел. Я ожидал увидеть, что весь голодный десяток набросится на него и разорвет. Но они этого не сделали. Они заспешили к пустому корыту и, потеревшись о дерево носами, горестно завизжали.