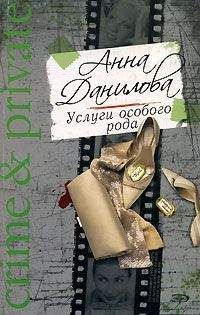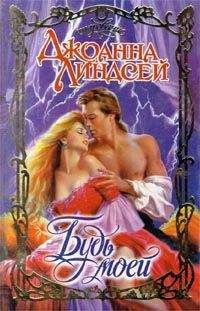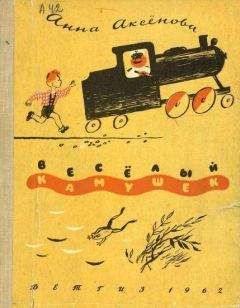Джоанна Бриско - Будь со мной
В какой-то миг я даже настолько растерялся, что чуть было не сказал: «Слушай, давай все это обсудим». Слова уже сложились в голове в предложение. Как легко было произнести его вслух! Я уже видел, как обниму ее, прижму к груди, склоню голову ей на плечо, признаюсь во всем, после этого обязательно будут слезы, крики, ссора.
Она снова подняла на меня глаза. Боли в них уже не было. «Мадонна в скалах» исчезла. Мы слишком хорошо знали друг друга. В какую-то секунду мне пришла в голову мысль признаться во всем просто так, поддавшись безрассудству, взять и швырнуть гранату в наши отношения, чтобы посмотреть на интересный взрыв. К тому же я уже не мог держать в себе отвратительное напряжение, с которым я жил последнее время. Но я промолчал.
— Четырнадцатого у МакДары день рождения, — напомнила она.
— Четырнадцатого? — в нерешительности произнес я. — Ах да, точно.
Немного помолчали.
— И у нее будет юбилей, — сказала она, показав на свой живот. — В пятницу.
— Ну конечно, — сказал я, наклонился, поцеловал ее в живот и на несколько секунд остался в таком положении. Когда распрямился, в голове гудело от чувства вины.
— А потом… весна. Потом июнь, — как-то невпопад сказал я. О свадьбе никто из нас не упоминал.
Она кивнула.
— Июнь, двадцать шестое, — добавил я.
— Давай поговорим об этом в другой раз, — предложила она.
Когда настал день рождения МакДары, я все еще находился в этом ужасном состоянии неопределенности. Я оделся, побрился, решил: будь что будет, и уже собрался выходить, но тут на мой электронный ящик пришло письмо с хотмейловского адреса.
«Индианка так же, как и я, могла читать по памяти целые поэмы, знала много интересного про дальние страны. Когда я увидела, как она целует Эмилию, мне захотелось разорвать ее, задушить или сделать ее такой же, как я. Но Эмилия принадлежала мне, с ней мы сливались и улетали в такие далекие края, до которых даже индианке никогда не добраться. Но это было нужно, нужно, так я готовила себя к тому дню, когда я повешусь или каким-нибудь другим способом спасу себя от матери. Поэтому мы упорно продолжали работать, недоедать, упражнять дыхание, не обращая внимания на трудности».
Я наскоро прочитал письмо, удалил его и вышел к Лелии, которая уже ждала на лестнице. Она была нарядно одета в яркое и разноцветное и казалась очень красивой. Поездка к МакДаре напомнила мне нашу поездку к нему на Рождество, когда мы ехали на такси (как же давно это было, словно в прошлой жизни!), только на этот раз у нас не проснулось горячее желание заняться любовью, мне не предстояло встретиться с мышкой, и теперь я знал, что внутри Лелии растет ребенок. Что-то бередило мне душу. Иногда по утрам я просыпался с чувством беспокойства, приходилось напрягать мозг и пытаться отыскать причину тревоги. Так и сейчас я не мог понять, что меня гложет. Потом я понял, что это был роман Сильвии.
Дверь нам открыл МакДара. К встрече с Катрин я подготовился заранее. Все обдумал, даже порепетировал, как при первом же удобном случае стану просить ее о сострадании, без всякого притворства скажу, что вверяю себя в ее руки. Перспектива такого разговора была не из приятных. Я бросил МакДаре подарок и направился прямиком на кухню пить.
Стоя под расположенными рядом встроенными светильниками, направленными на блестящий бледно-голубой холодильник марки «Смег», я подумал: вот что значит быть богатым. Сначала меня разобрала зависть, потом проснулась злость. Лет до тридцати МакДара вызывал у меня сочувствие из-за полного отсутствия артистического начала. Но теперь я видел перед собой плоды жизни, которую он для себя выбрал, — квартира в роскошном четырехэтажном доме викторианской эпохи в Ислингтоне[42], под завязку набитая дорогой мебелью из «Хилз»[43], на стенах мазня Рена, а на полу ковер, такой мягкий, что хочется опуститься на колени и вгрызться в него, забить рот длинным ворсом. У меня такого никогда не будет. Мне уже не казалась такой уж привлекательной идея всю жизнь прожить в мансардном помещении. Возвышенные и непрактичные амбиции не помешали мне стать неудачником. Все честолюбивые юношеские замыслы, в свершение которых так искренне верилось, были реализованы в лучшем случае наполовину и кое-как. А Рен! Рен, который столько лет горбился на работе, пока не превратил свое хобби в коммерческое предприятие, не испытав при этом ни капли тех мук, через которые должен пройти настоящий художник, и даже не задумываясь заняться чем-нибудь другим. И вот уже тихий и скромный Рен, обитающий в «половинке» частного дома, загребает деньги лопатой. С нарастающим чувством беспокойства я отогнал от себя ощущение собственной ущербности. Я могу жить в корабельной каюте или вообще в сарае, подумал я, но у меня есть любимая, моя Лелия, а это поважнее всех денег на свете.
Но тут я вспомнил.
Тело свело судорогой, я покачнулся, как будто вдруг потерял равновесие, и мир вдруг накренился.
Стакан выскользнул из рук, я потянулся за другим и налил себе вина, чтобы набраться смелости перед встречей с врагом, Катрин. Кто-то сделал громче музыку. Я притаился за тихо гудящим холодильником, начал высматривать ее. Тут я был в относительной безопасности — через арку, ведущую на кухню, гостиная просматривалась отлично, разве что какому-нибудь придурку вроде меня придет в голову залезть в холодильник за пивом, но это вряд ли, потому что МакДара, богатенький ублюдок, выставил целую ванну шампанского со льдом, чтобы показать всем, какой он щедрый, как ему безразличны деньги.
Увидел Катрин. Она пересекла комнату. Бледна и собранна, как всегда, хотя за всей этой кельтской невозмутимостью чувствуется какое-то безумство. Сердце заколотилось, как перед боем. Сделал еще один глоток вина, дождался, пока его огонь доберется до головы, и браво шагнул в гостиную. Она как раз отвернулась от одного из гостей, но на меня даже не посмотрела.
— Катрин, — позвал я, но слишком тихо. Она упорно не замечала меня.
Посмотрел на Лелию, залюбовался ее такими знакомыми и такими прекрасными чертами. Она лучше всех их, вместе взятых. Двинулся к ней, но Катрин пошла в том же направлении с таким видом, будто собирается начать с ней разговор. «Нет!» — в ужасе захотелось мне крикнуть, визгливо, по-бабски. На долю секунды я замер в растерянности, но когда Катрин уже подходила к Лелии, кинулся вперед и вклинился между ними, оттирая Катрин плечом. Она свернула, не произнося ни слова.
— Дорогая, — задыхаясь, сказал я.
— Что ты делаешь? — тихо засмеялась Лелия.
Я взял ее руками за плечи и развернул к себе. Она удивилась. Катрин покрутила регулятор силы света, и в комнате стало темнее. В эту секунду раздался звонок в дверь. Из коридора донеслись радостные крики. Я поцеловал Лелию в щеку, и прикосновение губами к гладкому и мягкому кусочку плоти вдруг показалось неприятным, хоть это и было самым обычным нашим приветствием, за которым обычно следовал легкий поцелуй в губы. Я почувствовал себя, как жестокий отец из старых романов. Повернул к себе ее лицо и снова поцеловал. Ее губы не пошевелились.
— Люблю тебя, — произнес я.
Ее прекрасные печальные глаза не выдали ни капли эмоций, но я знал, что за этим скрывается. Я доставил боль и обидел человека, которого больше всего на свете хотел защитить.
— Слушай, я правда тебя люблю, — повторил я, делая вид, что начинаю сердиться, и зарылся носом в ее упругие пышные волосы.
Она промолчала. Я поцеловал ее в макушку.
— Ты стал таким далеким, — наконец проговорила она.
— Знаю, знаю. Но я… — пожал плечами.
— Мне это не нравится, — сказала она ровным голосом и отвернулась. Ее взгляд устремился в другую сторону, словно меня и не было, словно без меня она вполне могла жить самостоятельной, совершенно другой жизнью. Она ведь может меня бросить, словно осенило меня. Впервые подобная мысль четко оформилась в голове, отчего по спине пробежал холодок. Раньше такой исход событий воспринимался по-книжному, просто как закономерный результат, следующий из факта измены, и казался так же невозможным, как и то состояние неопределенности, в котором я сейчас оказался.
Я задал вопрос про ребенка. Ее лицо немного просветлело. Подобная власть над ней граничила с жестокостью.
Погладил ее по животу. Она накрыла мою руку своей, хотя в глаза не посмотрела. Я снова поцеловал ее. Каждая деталь, каждая черточка ее, казалось, были навсегда выбиты на скрижалях моей памяти. Ее сережки показались такими родными, хотя раньше я целенаправленно никогда их и не рассматривал.
— Знаешь что, — сказала она. — Оно, чтоб ты знал, не может укусить через шейку матки.
Снова отвернулась, на лице то же холодное выражение.
С Сильвией придется расстаться. Она была моим последним глотком свободы, мальчишеской попыткой восстать против неминуемого, перед тем как отдать себя навеки. Когда-то я втихаря занимался онанизмом, представляя себе Николь Кидман или взрослых женственных садисток, которых было так много в дни моей юности, в особенности мне не давала покоя одна замужняя малоизвестная актриса, не выходившая из образа женщины-вамп, ее фотографии в газетах пробуждали во мне старые фантазии. Как все эти женщины, которые, не принося никакого вреда, проплывали у меня перед глазами по ночам (за что Лелия, догадываясь, что к чему, всегда поднимала меня на смех), так и Сильвия должна остаться для меня недосягаемым объектом сексуального желания. Мне никогда не хотелось быть ходоком.