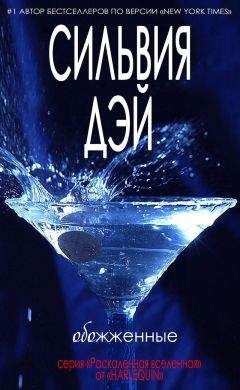Марк Криницкий - Маскарад чувства
— Мерзость, — сказал Иван Андреевич.
— Мерзость там или не мерзость, мы этого не знаем, а закон!
Боржевский опять немного надулся, точно обиделся за такую аттестацию бракоразводного закона.
— Ну, допустим, так, — сказал Иван Андреевич, брезгливо и снисходительно усмехаясь. — Как же все-таки устраивают подобные оригинальные «картины»?
— Вы хотите знать, как?
Боржевский подвинулся поближе.
— Устраиваются на квартире, в номерах, в бане (и чаще всего), наконец, в домах терпимости, но это реже… Тут есть одно обстоятельство, почему реже.
— Ну, а в бане?
— Нет удобнее. Приехали вы, скажем, в баню, заказали через коридорного себе девчонку. Когда она пришла, вы забываете наложить крючок, а банщик введет, скажем, кого другого. Хлоп! Ошибся номером: открывает вашу дверь — и вся мура!
— Черт знает, что за мерзость вы говорите! Не может быть, чтобы всегда так делалось. Это же не имеет названия. Какое-то надругательство над телом, над душою… над всем.
Он расхохотался.
— Вам говорят дело: не хотите — не слушайте.
Боржевский окончательно обиделся, но Иван Андреевич уже перестал с ним церемониться. Он понял, что визит его к Боржевскому был совершенно не нужен, и не мог себе простить, что сидел у него столько времени и даже пил водку. Хотелось скорее на свежий воздух.
— Так «картины»? — спросил он еще раз и весело посмеялся. — Нет, этого «способа» (он сделал ударение) придется избежать. Приношу все-таки благодарность за ваши любезные разъяснения, — прибавил он иронически в заключение и с достоинством встал.
Боржевский стоял маленький, серый и злой. Дурнев сунул ему на прощанье неполную ладонь.
— Надеетесь уладить дело иначе? Все может быть. Конечно, как я этим делом не занимаюсь специально, могу и не знать. Обратитесь к адвокатам.
III
Присяжный поверенный Прозоровский, которого Дурнев немного знал, принял его за чаем. Он сидел один, и ему прислуживала круглолицая и полногрудая горничная, с неживыми, точно у куклы, глазами и такими же, как у куклы, светло-льняными кудряшками волос на лбу.
Иван Андреевич только сейчас припомнил, что Прозоровский разошелся с женой, и пожалел, что пришел именно к нему.
— Ну, и в чем же дело? — спросил Прозоровский, нервно двигая губами, в которых держал папироску, точно жуя ее.
Он казался сильно постаревшим.
— Так-с, и вы хотите разводиться?
Он сделал профессионально-безучастное лицо. Лоб его наморщился и, видимо, заставляя себя насильно сосредоточиться на теме разговора, он вдруг скороговоркой заговорил, беспрестанно закуривая одну папиросу за другой. Курил он, жадно затягиваясь впалой грудью, и при этом втягивал щеки. И, вообще, вид у него был внушавший сожаление.
— Развод у нас обставлен некоторыми неприятными формальностями.
Он встал и затворил дверь в соседнюю комнату, где кто-то усердно стучал на пишущей машинке.
— Это продолжает оставаться центром вопроса. Вы принимаете, конечно, вину на себя?
Он усмехнулся губами, державшими папиросу.
— Значит, вашей жене или вам самим для вашей жены нужно найти таких свидетелей, которые показали бы… Это вы уже знаете?
— От вас я хотел узнать о другом, — сказал нетерпеливо Иван Андреевич. — Нельзя ли вовсе обойтись без подобных свидетелей? Я слышал, что для этого следует куда-то что-то заплатить.
Прозоровский откинул голову назад и молча широко открыл рот, что означало, что он смеется.
— Ерунда. Платить вы можете куда угодно: в консисторию, синодским, если только там берут. А главная все-таки и неизбежная статья расхода — это свидетели. Мерзость, грязь, но без этого не обойдешься, и потому вам самое лучшее обратиться к какому-либо лицу, сведущему по бракоразводным делам. Я ведь не веду этих процессов. У них, знаете ли, то есть у ведущих подобные дела, своя техника. Задача, в сущности, сводится к точной инсценировке факта прелюбодеяния. Остальное зависит уже от личного состава суда: пожелает суд копаться в мелочах и уличать ваших подставных свидетелей в лжесвидетельстве или нет. Словом, тут целая серия привходящих условий. А у специалистов этого дела все уже налажено: и подставные свидетели, и все. Хотите, я вам дам адрес одного из них?
И Прозоровский назвал Боржевского.
— Вы что? — спросил он, заметив странное выражение в лице Ивана Андреевича.
— Так.
И тогда только Ивану Андреевичу ясно представилась вся безвыходность того круга, в который он попал.
— Так, — повторил и Прозоровский. — А позвольте вас спросить, на кой, извините за выражение, вам черт этот самый развод?
Он вскочил и заходил по комнате, и лицо у него внезапно сделалось товарищески-ласковым.
«У него широкие милые губы», — подумал Иван Андреевич.
— Хотите жениться?
Но Иван Андреевич желал все-таки несколько дать ему понять, что он не может дать ему права говорить с собою в таком тоне, и промолчал.
Прозоровский сделал кислую мину.
— Забудьте, что я адвокат и вы пришли ко мне за советом. Тем более, что я вам ничего и посоветовать не могу…
В глазах его на мгновение изобразилась сочувственная тоска и легкая ирония. Он перестал жевать папиросу и вынул ее изо рта.
— Впрочем, нет, извините… Какое, в сущности, я имею право? Ах, глупо! Прошу меня извинить.
Он сделал злое, скучающее лицо и слегка поклонился, давая знать, что официальная часть аудиенции, собственно, если угодно, кончена.
— Нет, отчего же… Давайте забудем, что вы адвокат, — сказал Иван Андреевич, сохраняя осторожность и слегка платя Прозоровскому за его юмористический тон тем же юмористическим тоном.
Прозоровский опять безмолвно разинул рот, показывая этим, что он находит ответ Ивана Андреевича остроумным, и опять забегал по кабинету.
— Так вот я хотел вас только спросить: а второй раз в браке вы намерены быть счастливы? Больше ничего. Вы думаете, что на этот раз нашли, простите, совершенство?
В глазах его была злость. Иван Андреевич почувствовал себя задетым, но Прозоровский уже по-прежнему просительно и немного страдальчески улыбался.
— Слушайте: я вам скажу, что для брака каждая женщина, решительно каждая, в одинаковой мере годится и не годится. Годится потому, что ни одна из них все равно не годится, в смысле оправдания тех мечтаний, которые строит себе относительно брака мужчина, а не годится постольку, поскольку в каждой женщине есть элементарная тупость, не позволяющая ей видеть чего-то самого главного. Я видел умнейших женщин, но в этом пункте — все женщины сходятся. Простите, я скажу больше: в одинаковой степени глупы. Женщина хочет не только обладать, но непременным образом владеть.
Он сощурил один глаз.
— Скажите любимой вами женщине, что вы готовы принести ей какие угодно жертвы, что вы ради нее отказываетесь от вашего призвания, даже от жизни, что вы готовы умереть по первому мановению ее руки, но что владеть она вами никогда не будет… Именно это слово: владеть.
— То есть, как это «владеть»?
— Вы не знаете, что такое «владеть»? Это значит иметь право чем-нибудь распорядиться по своему усмотрению. Владеть вами, это значит иметь право распорядиться вашею душою, вашими идеями, вашим богом по своему усмотрению. Да, да и богом, если у вас есть бог, вашею истиною, всем вашим человеческим нравственным бытием. Владеть, это значит не признавать за вами права считать белое белым и справедливое справедливым, превратиться в пустое место, или, если хотите, в теплое, уютное гнездо, где хорошо живется, где спят, плодятся и враждебно рычат на весь остальной Божий мир. А иногда и просто только в необходимую принадлежность всякого гнезда. Извините за вульгарность.
И для всего этого надо, прежде всего, владеть… Я бы женщин держал под замком. И тут речь идет не о чьей-либо вине. Понимаете, тут естественный тормоз, тут почва, дно жизни, тут нечто большое и страшное. Вообще, все эти заигрывания с женским вопросом мне представляются одним большим недомыслием. Свобода женщин!
Он разинул коротко рот, чтобы по-своему безмолвно посмеяться, и вдруг сдвинул брови:
— А подумали, на что женщина употребит свою свободу? На что она может ее употребить? Говорить о свободе женщин, это все равно, что говорить о свободе пантер или диких кошек. Женщина хороша только тогда, когда она в клетке, взнуздана. И тогда в ней есть даже что-то трогательное. Женщина должна быть порабощена.
Он позвонил.
— Кстати, вам никогда не приходило в голову, что эту нашу иллюзию в отношении женской души поддерживает, главным образом, женское платье, именно длинная юбка, которая скрадывает что-то уродливое, недоношенное, даже во внешнем облике женщины. Женщина, как вы знаете, коротконога. В статуях это не так заметно и особенно сказывается при ходьбе; оденьте женщину в брюки, и вся эта ее природная незаконченность, несоразмерность, а в большинстве случаев, и низкорослость, приравнивающая ее даже по величине к ребенку (ведь женщина часто кажется большим, взрослым человеком, только благодаря юбке) сразу выступит наружу.