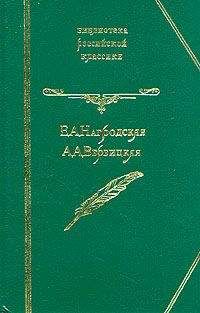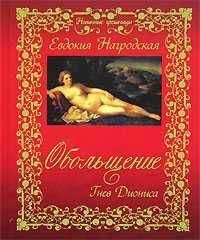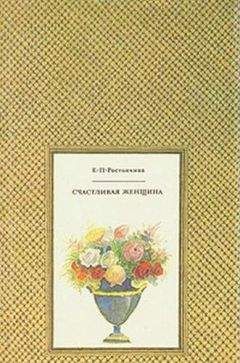Евдокия Нагродская - Аня и другие рассказы
Да вообще, любил ли кто-нибудь когда-нибудь так, как он?
Он припоминал признания своих товарищей, свои собственные увлечения… Нет, нет, там везде, даже в самых легких флиртах, было что-то нечистое, земное, а эта его любовь была светла, как заря, как ясное небо, как глазки его маленькой сестренки Киски.
Правда, было раз… но, Боже мой, ведь они любили друг друга, а тут была весенняя ночь, цвела сирень, они целый час говорили о любви… целовались… и она лежала в его объятиях… но он опомнился, он даже вырвался из этих крепко обнимавших его дорогих ручек… нет, нет, она была его святыней!
Да она и теперь осталась для него святыней; другие могут говорить, что хотят: он знает, как она чиста душой.
Он сам привел к ним в дом Анатолия Петровича Подгуру.
Мурочка, ее мать и кузины после дебюта Подгуры в «Руслане» совершенно сошли с ума и потребовали от него привезти Подгуру немедленно.
Сеня помнит, как он уговаривал Подгуру, Анатолию Петровичу было лень вылезать из халата и ехать куда-то знакомиться.
Родители знаменитого баритона и Сени были соседями в губернском городе. В многочисленной семье Подгуры были сверстники и друзья у Сени, но Анатолий ему всегда представлялся героем, чем-то вроде «Орлиного Глаза» из племени команчей. Он распоряжался самовластно и младшими братьями, и Сеней, отнимал у них палочки, перья и мячики, а они трепетно и покорно покорялись ему. Еще бы! Он поборол мясника Мишку, застрелил на лету ворону и переплывал довольно широкую реку, на берегу которой стоял их город. Когда Сеня поступил в гимназию, Анатолий сидел уже второй год в шестом классе, мозоля глаза директору своей атлетической фигурой, громким голосом и своими ужасными шалостями. Через год он был исключен. Но когда Сеня студентом явился домой, Подгура уже с громкой славой «первого баритона» приехал в родной город.
Анатолий Петрович умел привлекать молодежь простотой обращения, веселым характером и румяным симпатичным лицом.
Молодежь охотно шла не только в театр слушать его, но и к нему на дом, где всех равно приветствовала Елизавета Васильевна Ломова, «гражданская жена» Подгуры. Высокая, красивая брюнетка, с темными огненными глазами и блестящими зубами, пела довольно посредственно вторые контральтовые партии, но она была посредственна только в опере; ее коньком были русские песни, и пела она их так, как никто. И какой то удалью, то тоской звучали эти песни, что слушатели то плакали, то были готовы пуститься в пляс. Ей много раз говорили, что она как исполнительница этого жанра могла бы составить себе имя, но Елизавета Васильевна жила только славой Тоши да своей маленькой дочкой Шуркой. Она отмахивалась обеими руками и говорила:
— Я не жадна ни до славы, ни до денег; кабы что случилось, стала б кормиться своими песнями, а теперь мне и так тепло и не дует. Да и боюсь я, голубчики, — таинственно прибавляла она, — буду я ездить с концертами, а он тут без меня, увидите, закрутит. Поклонниц-то много, выбирай любую… лезут… а мужчины, сами знаете, народ слабый.
Вот этого-то Подгуру в ореоле славы он привел к Мурочке!
А тут заболел его отец, ему пришлось уехать и целый месяц пробыть в отсутствии. Он писал Мурочке чуть не каждый день, и она сначала отвечала довольно аккуратно… а потом… на его отчаянных три письма ответила открыткою: «Приезжайте — все объясню».
Он едва дождался, когда отец немного оправился, и полетел в Петербург.
Плохо он помнит, как, замирая от беспокойства, позвонил у двери, как отвечал на расспросы и восклицания кузин. Он видел одну Мурочку — очаровательную, взволнованную, с опущенной головкой.
Когда они остались одни, она села около него на диван, положила руки на его плечи и произнесла тихим дрожащим голосом:
— Сеня, прости, сердцу не прикажешь!
Он понял… просто и мучительно, потому что просто.
На сцене, в книгах выходит как-то эффектнее, как-то красивее и потому не так больно.
Тут-то он призвал к себе на помощь всю свою великую любовь к ней. Он увидел, как ей его жалко, как ей неловко, и он переломил себя: не зарыдал, не стал упрекать, проклинать, а она полная новой страсти с бессознательной жестокостью, заговорила о своей любви к Подгуре, о своих с ним свиданиях, сначала на улице, в скверах, и о последнем, где-то в гостинице.
— Сеня, прости, я потеряла голову, мне казалось, что, если он не будет моим, я умру… умру! Он сначала боялся, — говорила она со счастливым смехом, — отговаривал, говорил, что я гублю себя, и не устоял, не устоял, он мой, мой, мой! В последний раз, когда весь театр бесновался и кричал, вызывая его, я стояла гордая, как царица, и твердила себе: «Вы все в восторге, в упоении, все женщины были бы счастливы его словом, его взглядом, а он — мой, мой!»
Сеня слушал и сжимал кулаки.
А Мурочка была так прелестна в этом порыве беззаветной страсти.
— У него жена и ребенок, — пробормотал он.
— Ах, Сеня, не говори об этой женщине! Мещанка… кухарка. Не говори, страсть не рассуждает, настоящая любовь, которая соединила нас, ломает все на своем пути, все, все!
Целый месяц он ходил как потерянный.
А что ж, может быть, эта страсть теперь сгорела, прошла, и она, разбитая, вернулась к нему.
Если так, он придет и скажет ей: «Будь моей женой, мое дитя, моя любовь, израненная, больная, будь моей женой. Чисто и свято чувство мое, и не считаю я, как другие, за преступление, что моя белая бабочка, подхваченная волной жаркого ветра, опалила крылышки о пламя костра. Костер этот зажжен не нами, и не в наших силах бороться с его пламенем».
Уже четверть часа Сеня дожидался Мурочку на указанной скамейке.
Белая ночь, тихая и теплая, вся в нежно-лиловатых тонах, медленно и ласково отбирала небо и гладь пруда у золотисто-оранжевой вечерней зари.
Звуки оркестра едва-едва доносились до Сени.
Она придет сейчас, сейчас…
Он увидит ее глаза, ее бледное прелестное личико и… может быть, счастье вернется.
Наконец! Ее грациозная фигурка в темном костюме торопливым шагом идет к нему.
Он вскакивает, хватает ее ручки и прижимает к своим губам.
Эти ручки дрожат, она опустила голову, и большая черная шляпа совершенно скрывает ее лицо.
Она опускается на скамейку, дышит тяжело и с трудом, и вдруг истерическое рыдание вырывается из ее груди.
— Мурочка, милая, дорогая, — говорит Сеня, садясь рядом. — Перестаньте… не плачьте… ах, Боже мой! Да что такое случилось? — Он совершенно растерян и только все крепче и крепче сжимает дрожащие ручки.
— Я умру, умру, Сеня; я не хочу жить, не хочу!
— Родная… хорошая… да в чем дело… скажите… Я все для вас… возьмите жизнь мою… не плачьте, ради Бога: вон какие-то офицеры идут.
Мурочка прижимала платок к губам, едва сдерживая рыдания.
— Мы виделись в гостинице два раза, потом он стал говорить, что дорожит моей репутацией… потом… он уехал на гастроли, и целый месяц ни одного письма… одна открытка, которую я могла бы показать всем… А теперь он вернулся и не пишет… и не едет… Сеня, я умру…
— Мурочка, он, может быть, не вернулся еще.
— Я узнала из газет, вот уже четыре дня… он на даче… в Озерках, я два раза ездила… не застала. Я оставила письмо, я написала, что не могу жить без него… что я стравлюсь, а он и сегодня не приехал. Наверно, эта женщина перехватила письмо. Я не запечатала, потому что она дала мне только бумагу, а конверта у нее не было…
И она опять залилась слезами.
— Мурочка, может, он занят чем-нибудь, у него нет времени.
— Нет! Я чувствую… Сеня, голубчик, у меня к вам такая большая просьба. Я понимаю, что это жестоко заставлять вас… но мне больше не к кому обратиться, а если он не придет, я умру! Поезжайте к нему, отыщите его, скажите… что если… если… у меня яд… сулема.
— Мурочка, ради Бога, что вы говорите, — в ужасе восклицает Сеня.
— Нет, Сеня, это решено. Моя жизнь разбита… мне не для чего жить; и все эта проклятая женщина! Она хочет его удержать, она, наверно, перехватывает мои письма… она… Сеня, если вы еще любите меня хоть немного, пойдите скажите ему, чтоб он пришел, хоть последний раз, хоть объясниться.
И Мурочка с тихим плачем прижалась к плечу Сени.
Сеня тихо обнял ее, согревал ее холодные руки, сердце его разрывалось от ревности, жалости и негодования.
Как велика его любовь к этой доверчиво прижавшейся к нему дорогой девушке.
Он пойдет, пойдет к Подгуре и притащит его к ней, живого или мертвого.
Рвется его сердце от ревнивой боли, но он сделает все, только бы была она счастлива, только бы не отогнала его и позволила остаться хоть другом, хоть братом.
Он теснее прижал к себе ее тоненькую талию.
Они оба молчали, а лиловые сумерки ночи охватили и небо, и пруд.
На другой день Сеня приехал в Озерки около часа. Дорога до дачи Подгуры показалась ему ужасно длинной, и он злился, что не взял извозчика.