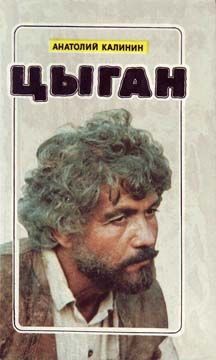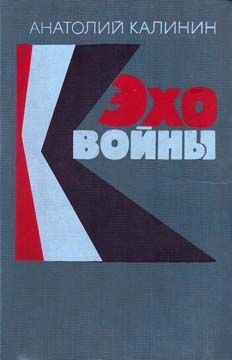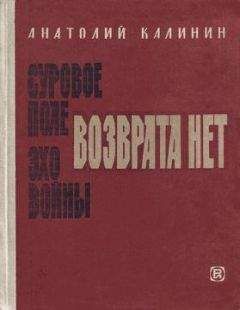Наталья Калинина - Любимые и покинутые
— Я все поняла. — Крокодильша снова сверкнула золотом зубов. — Ничего, моя дорогая, терпение женщину только красит. Терпение и умение прощать. Ты, я вижу, мудрая девочка, и умеешь делать и то, и другое.
— Но… простить ведь далеко не все можно, — пробормотала Маша, чувствуя, как снова начинают дрожать губы. — Есть вещи, которые я… я бы не смогла простить.
— Чепуха! — Серафима Антоновна рассмеялась, прижав к груди руки. — Я тоже так думала, когда мне было двадцать пять и даже тридцать, но потом поняла, что если хочешь выжить, нужно уметь на многое закрывать глаза.
— Закрывать глаза? — недоумевала Маша. — Вы хотите сказать, что нужно жить с закрытыми глазами?
Маша встала и, пошатываясь, подошла к роялю. Ей вдруг показалось, будто за пределами квартиры разверзлась пропасть, в которой она, стоит переступить порог, сгинет, что Серафима Антоновна цербер, стерегущий туда вход. Ей бы сейчас спрятаться под рояль, как она делала в детстве, когда не хотелось видеть и чувствовать то, что происходит за пределами ее существа. Рояль — это спасение, убежище, радости и муки, не зависящие от происходящего вокруг. То, что не в состоянии изменить даже самые сильные мира сего. Маша положила на рояль ладони, пытаясь проникнуться его спокойной прохладой, дрожащей внутренним напряжением страстей.
— Девочка моя, тебе плохо? — спросила Серафима Антоновна и, встав с дивана, направилась было к Маше, но остановилась на полпути, потрясенная выражением ее лица.
— Не подходи! — прошептала Маша. — Я не хочу, не хочу тебя слушать. Ты злая. Ты хочешь мне все испортить. Но я все равно не поверю тому, что ты скажешь.
Крокодильша загадочно улыбнулась и засунула руки в карманы своего темно-зеленого шерстяного платья с отделкой из черного панбархата.
— А я, деточка, ничего особенного и не собиралась тебе говорить. Да и что может быть особенного в том, что мужья изменяют своим женам? Так было и так будет всегда.
Маша почувствовала, как свело судорогой живот. А потом там забегали холодные и колючие мурашки.
— Уходи! Я… я тебя ненавижу! Ты все врешь. Ты мне завидуешь, — шептала Маша внезапно одеревеневшими губами. — Завидуешь нашему счастью. Ты никогда не была такой счастливой, как я. Ты…
Маша разрыдалась, вцепившись ладонями в крышку рояля.
— Я уйду, — сказала Серафима Антоновна, — но от этого ничего не изменится. Между прочим, я хотела тебе добра. Я с самого начала симпатизирую тебе.
Шатаясь, Маша направилась в спальню, села на кровать и повернула голову к двери. Серафима Антоновна улыбалась ей с порога. В блеске ее золотых зубов Маше чудилось что-то зловещее.
И вдруг ей захотелось узнать в мельчайших подробностях то, о чем говорила намеками Крокодильша. Страшно захотелось. Так, бывает, хочется ребенку прыгнуть очертя голову с высокой кручи. И не всегда срабатывает заложенный мудрой природой инстинкт самосохранения.
Маша, не отрываясь, смотрела на Крокодильшу, и та под ее взглядом пересекла разделяющее их пространство, села рядом с Машей на кровать, обняла ее за талию и прижала к себе. И Маша вдруг положила голову ей на плечо и всхлипнула.
— Милая моя, да ты совсем еще маленькая девочка, а сама мамой собираешься стать, — сказала Крокодильша, гладя Машу по волосам. — Ну и что из того, если твой муж с какой-то там шлюхой переспит? Для них это все равно, что в туалет сходить. Вообще я хочу сказать тебе, что половая жизнь — это надругательство над женщиной. Знаешь, я почувствовала громадное облегчение, когда Сан Саныч перестал требовать от меня исполнения супружеского долга. Мы с ним уже пятнадцать лет как не спим вместе. Знаю, у него были и есть бабы, и сейчас он не простуду выгоняет, а обыкновенный трипперок. Это он с «рыбалки» трофей привез. Хорошо еще, не сифилис.
— Но неужели Коля мог… спутаться с какой-то… шлюхой? — простонала Маша. — Зачем ему? Ведь я… я…
— Я понимаю, ты регулярно исполняешь свой супружеский долг. Но супружеские ласки приедаются, тем более, что шлюхи позволяют себе такие вольности, от которых нас с тобой просто бы стошнило. Представляешь, мне рассказывала приятельница, что берет в рот член своего любовника. А раз он ей даже кончил в рот. Мерзость какая! Но мужиков всегда тянет на всякие мерзости. А тебе советую не подпускать к себе мужа — вдруг и он заодно с Санычем заразу подцепил? Ребеночка побереги. Притворись, что чувствуешь себя плохо да и врачи, дескать, запретили. Мужики такие лопухи — всякой брехне верят.
Крокодильша расправила на коленях зеленые складки. Маша обратила внимание, что у Серафимы Антоновны ноги похожи на два толстых бревна, устойчиво и незыблемо вросших в плоскую поверхность пола, а ее собственные напоминают стволы молодых березок, которые качает во все стороны ветер. Она позавидовала тому, что Крокодильша уже пережила и перестрадала то, что ей еще предстоит пережить и перестрадать. И — главное — уцелела. А вот она…
Крокодильша гладила ее по спине, шептала что-то на ухо, но Маша уже ничего не слышала. Ее охватила апатия, безразличие ко всему, происходящему вокруг. Словно она попала в бесцветное, без вкуса, запаха и прочих жизненных ощущений пространство, которое собралось вокруг нее наподобие земной атмосферы, и несется она теперь в окружении этого пространства по неведомо куда ведущей орбите. «Ну и что? — говорила она себе чужим внутренним голосом. — Пускай, пускай… К чему сопротивляться? Я устала, устала сопротивляться самой себе. Устала, устала… Там покой, покой. Не надо ничего чувствовать. Чувствовать очень больно. Покой, покой…»
Маша медленно легла на спину, сложила на груди руки и стала смотреть в потолок. Крокодильша хлопотала возле нее, совала в рот чашку с каким-то питьем, но Маша плотно стиснула зубы. Не позволит она больше окружающему миру вторгнуться в нее, не пустит этот мир внутрь себя. У этой толстой женщины в зеленом злое и вместе с тем испуганное лицо. Кто она? Ах, был бы рядом Анджей, все было бы иначе. Она теперь точно знает — в Анджея переселилась душа Фридерика Шопена, которым она бредила с детства. Она и раньше об этом догадывалась, но теперь точно знает. Когда она играет Шопена, она слышит и ощущает в каждом звуке Анджея. Но она никому об этом не скажет. Никому. И уж тем более этой женщине со злым испуганным лицом. Все они хотят отнять у нее Анджея. Все до единого…
Маша закрыла глаза и погрузилась во что-то сияющее, прозрачное, благоуханное. «Моя богданка, укохана, люба дивчинка», — шептал голос Анджея. Она тоже хотела ответить ему словами любви, но губы не слушались — они превратились в тиски, которые ей было не под силу разжать. Внутри сделалось горячо, потом ее существо пронзила острая боль. И все куда-то исчезло — и Анджей, и это сияние, и черный мрак…
Николая Петровича вызвали прямо из президиума совещания передовиков сельского хозяйства, на котором он председательствовал в отсутствие Первого. То, что его нашли столь оперативно, было заслугой Серафимы Антоновны, буквально поднявшей на ноги весь обком. Он подъехал к подъезду, возле которого уже стояла амбулаторная машина с распахнутыми дверцами, выскочил на ходу из своего ЗИСа и увидел санитаров, выносящих носилки с Машей. Его поразила бледность ее лица, он наклонился, крепко стиснул в своих руках лежащие на ее груди ладони. Они оказались холодными и совсем безжизненными.
— Она… она…
Он побоялся выговорить это страшное слово «умерла», которое так и вертелось на языке. Врач из спецполиклиники, которого Николай Петрович знал в лицо, вежливо поздоровавшись, ответил:
— Мы сделаем все возможное и невозможное. Не волнуйтесь. Пожалуйста, не задерживайте нас.
Носилки с Машей исчезли в темном чреве машины, дверцы захлопнулись. Взвыла сирена. Николай Петрович быстро вернулся в свой ЗИС, бросил Виктору: «Гони следом!»
Они шли впритык со «скорой», и ветровое стекло их машины было заляпано грязью из-под ее колес. В одном месте «скорая» резко затормозила — кто-то перебегал дорогу, — и Виктору пришлось вырулить на тротуар, затормозив буквально в сантиметре от ствола дерева. Николай Петрович даже не успел испугаться — кажется, он утратил эту способность пугаться за собственную жизнь. Виктор сказал: «Пронесло на этот раз», вырулил в какой-то грязный, весь в колдобинах переулок, и через минуту они оказались возле приемного покоя центральной больницы. Носилки с Машей уже достали из машины, возле них хлопотал доктор со знакомым лицом. Он что-то крикнул выбежавшим на улицу двум женщинам в белых халатах. «Господи, только бы она осталась жива! Боже, помоги!» — вырвалось у Николая Петровича.
Он тут же устыдился своих слов, закашлялся в кулак, покосился на Виктора. Шофер невозмутимо протирал тряпкой забрызганное грязью ветровое стекло.
Николай Петрович вернулся домой поздно. Позвонил в дверь, — вероятно, он где-то обронил ключи или же они остались в кармане пиджака, который он забыл в больнице. Дверь тут же открыла Вера, словно специально стояла возле нее. Из-за ее спины выглядывала зареванная перепуганная Машка.