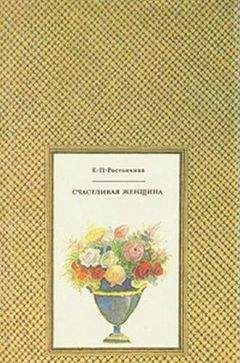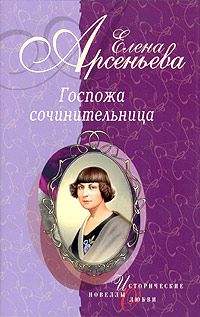Евдокия Ростопчина - Счастливая женщина
Не одно только сердце, не одно только чувство справедливости громко вопияли в Марине: гордость, эта орлица, которую стрелы клеветы не могут заставить упасть на землю, как бы смертельно они ее ни поражали, и которая, раненная ими, все возносится выше и выше, на недосягаемые снизу вершины, исцелиться или умереть в недоступной тишине, — гордость была в ней раздражена, и ее голос говорил едва ли не громче самой любви. Как! — заветные тайны ее души служили предлогом безумному закладу насмешливой молодежи!.. Как! — ее любовь, ее счастие сделались предметом общего разговора, как обыденное событие, как водевиль, данный на театре!.. И все это потому, что нескромная болтливость одного недоброжелательного семейства предала ее имя на забаву толпы, потому что эгоизм этого семейства жертвовал ею для своих расчетов, потому что Ухманские, не щадя в ней ни молодости, ни искренности, ни даже самой любви ее и любви к ней Бориса, Ухманские распустили по городу толки о семейных делах своих и тайне сына, долженствовавшей быть для них священной!.. Это несчастие, сотканное из таких мелких причин и ничтожных побуждений, эта лавина, устремляющаяся на нее со всех сторон и грозящая ее раздавить, — Марина одним взглядом, одною мыслью их поняла и объяснила себе все их значение, все их последствия. Но, против собственного чаяния, она не чувствовала себя уничтоженной; напротив, силы, доселе ей самой неведомые, проснулись в ее душе и готовились противостать всему и всем… Марина подняла голову, отерла слезы свои, продолжала расспрашивать княгиню, — и та удивилась, увидя такую перемену в лице и голосе женщины, за минуту до того разбитой и уничтоженной. Княгиня Мэри, натура, не одаренная самостоятельностью и твердостью, не понимала этой железной воли, которая в борьбе сгибалась только, чтоб сосредоточиться, и выпрямлялась сильнее и непреклоннее в своей упругости. Она ожидала нервических припадков, истерики, обморока, после которых обыкновенно другие женщины притихают и смиряются, покоряясь неизбежности или чужой власти, сильнее их. Тут же она видела горе глубокое, горе истинное, но твердость непоколебимую и решимость бороться до крайности. Она обняла Марину.
— Прощай, — сказала она вставая, — тебя, я вижу, лучше предоставить себе самой! Ты одна за себя заступишься и все конечно устроишь к лучшему. Ах, Марина, как ты счастлива, что ты так сильна! Тебя никогда не сразит никакое огорчение!
Марина горько улыбнулась…
— Посмотри! — отвечала она и, схватив руку княгини, положила ее себе на лоб, покрытый холодным потом, хотя над его мраморною поверхностью ни одна складка не обозначала мучения, в нем гнездившегося. — Посмотри! — продолжала Марина и провела рукою княгини по своим вискам, бившимся, как пульс в лихорадке, а потом по своему сердцу, трепетавшему прерывисто и вздымавшему высоко грудь… Княгиня испугалась, хотела остаться, чтоб подать помощь Марине, если она занеможет. — Нет, ступай! — возразила она, — со мной ничего хуже не сделается, я себя знаю; но тебе не годится здесь оставаться, тебя это расстроит, моя добрая, милая Мэри; ты ведь не привыкла к горю и не тебе с ним совладать!.. Прощай, Господь с тобой.
Тут княгиня в свою очередь горько улыбнулась, подняла глаза и плечи вверх, хотела что-то сказать, но спохватилась и вышла из комнаты, тяжело вздыхая. Много дум пробудили в ней последние слова ее приятельницы. Когда-нибудь узнается, какие были эти думы.
Марина осталась неподвижна; взяв голову в руки, она предалась всем размышлениям и страданиям, которые вдруг на нее нахлынули… Потерянное счастье… уничтоженная, нет, хуже!.. отравленная любовь… вся жизнь ее, сокрушенная одним ударом… но более всего, но больнее и мучительнее всего, вероломство Бориса… измена того, которого она так высоко ставила в своем уважении и своей любви, и все эти задушевные муки свирепствовали в ней и терзали ее.
Долго просидела она в безмолвии и забытье своего горя. Смерклось, пришли освещать комнату, спускать гардины и сторы, она притворилась больною и молча махнула рукою человеку, чтоб он ничего не трогал и унес нестерпимый ей свет лампы. Потом пришли доложить, что кушанье на столе. Мадам Боваль пришла звать ее к обеду, но она отказалась, жалуясь на простуду и лихорадку, и слабым голосом просила, чтоб ее оставили одну в покое и темноте. Наконец, настал вечер, холод охватил кабинет, не согреваемый более потухшим камином. Она все сидела, не трогаясь с места и не переставая думать, мыслить, страдать… На другой день, когда горничная расчесывала ее длинные черные косы, на самой маковке найдена была целая прядь совершенно белых волос…
В половине девятого часа она вдруг вздрогнула и опомнилась; у подъезда остановился экипаж, она узнала знакомый стук его кареты, оправилась с ног до головы и позвонила, чтоб велеть подать огня. Борис вошел к ней вместе с людьми, принесшими лампу и свечи, — он остолбенел, увидя ее лицо…
— Что с вами, Боже мой! — вскричал он, — вы нездоровы?..
Она, чувствуя тяжесть взоров наблюдательной прислуги, улыбалась и протянула ему руку, другою показывая кресло возле себя.
— Да, я где-то, верно, простудилась; меня знобит и оттого я, должно быть, очень бледна… — И она куталась крепче в горностаевую кацавейку, чтоб подтвердить свои слова.
Люди вышли, тяжелая портьерка упала вдоль затворенной двери, они остались вдвоем.
— Марина, что сделалось?.. ты не больна, ты чем-то страшно взволнована? — И он схватил обе ее руки и привлекал ее ближе к себе, чтоб посмотреть ей в лицо. Он ужаснулся, так бледно и искажено было это лицо, столь ему знакомое и приятное во всех своих изменениях. Она освободила свои руки, спокойно, но решительно.
— Борис, — начала она, и голос замирал в ее горле, и слова не вязались в стиснутых устах. — Борис, кажется, между нами первым и главным условием была взаимная откровенность, откровенность полная, всегда, в каком бы то ни было случае?.. Не так ли?
— Точно так!.. но что за вопрос, к чему?..
— К тому, что когда любят женщину, или говорят ей, что ее любят, тогда не думают, по крайней мере, не должны думать о женитьбе на другой.
— Женитьба!.. да разве я об ней помышляю!.. что это значит?..
— Я не разбираю, вы ли помышляете, или другие за вас, но дело в том, что вы женитесь, и уже весь город об этом говорит, а я одна ничего не знаю…
— Это неправда! клянусь, мой друг, неправда! гнусная ложь!.. Кто мог тебе сказать? Ради Бога, ради любви моей к тебе, не верь, успокойся! Расскажи мне, откуда ты это взяла?
Она повторила ему все слышанное от княгини Мэри, толки света, загадыванья и заклады некоторых любопытных, общее порицание, падавшее на него. Он пришел в негодование. Благородный гнев вскипел в душе его, не способной к обману и лжи. Он клялся, что нет ничего правдоподобного во всех этих слухах, кроме желания его матери и сестер женить его, о котором он ничего не сказал Марине, чтоб не потревожить ее и не огорчить напрасно. «Ты знаешь, ангел мой, — прибавил он, — что меня не женят без моего ведома и согласия, а я никогда не соглашусь!»
— Никогда, Борис… этим много сказано!.. подумай, тебя уговорят!
— Никогда, покуда я тебя люблю, — так как я люблю тебя больше прежнего, люблю с каждым днем все более и более, то нет причин предвидеть, чтоб я мог тебя разлюбить, а из этого выходит, что я никогда не женюсь!
— Нет, мой друг, — и она грустно качала головой, — из этого ничего не выходит, кроме беспокойства для меня и всевозможных причин остерегаться… Я знаю, каково влияние твоих на тебя; если они положили себе целию женить тебя, то рано или поздно им это удастся!
Борис почти рассердился… Он доказывал, что влияние его семьи ограничивается маленькими пожертвованиями, в которых он ей не отказывает, чтоб сохранить свою свободу в главном, то есть в любви своей к Марине.
— Борис, маленькие пожертвования ведут и к большим… уступчивость — колесо на мельнице: попадись пальцем — оно увлечет и скрутит всего человека… Это неизбежно!.. И самые эти слухи, эти вести о твоей женитьбе, откуда могли они произойти? Разве ты бываешь в доме Эйсбергов?
Борис опустил голову и призадумался… — Да, — сказал он, помолчав, — я был на званых вечерах… Но не помню ничего такого, что могло бы дать повод заключить что-нибудь из моих посещений; с девчонкой я не говорил, она сидела в другой комнате, как водится.
— Борис, — вымолвила она робко и нежно, глядя ему в глаза с подобострастным умилением, — Борис, хочешь ли ты доказать мне свою любовь?..
— Чем?.. что прикажешь? говори!.. Ты знаешь, я готов на все, что только можно, и даже невозможно, чтоб только успокоить тебя!..
— Обещай мне, что ты никогда больше не поедешь к графу или графине Эйсберг!
— Ангел мой, что за странная мысль и не нужная предосторожность?.. Я тебе дал и опять даю свое честное слово, что я не думаю жениться ни на ком, и на Ненси Эйсберг менее, чем на всякой другой, чего ж тебе более!