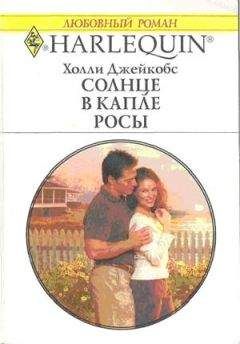Эрве Базен - Кого я смею любить
Эта картина заставила меня остановиться. Я зашла слишком далеко в ярости самоуничижения. Я снова поднялась на ноги, устав от себя и возмутившись своими оскорблениями. У меня пылали щеки от яркого воспоминания о пяти жарких минутах, когда, на дороге в рай, «случайность» показалась мне совсем иной. Слепцы — да, мы были слепы, на этой дороге у нас вдруг закрылись глаза. Но огонь уже давно, много дней теплился под черной залой. Эти сияющие взгляды Мориса, эти нерешительные робкие прикосновения, эти колебания между «ты» и «вы», да и сама эта настойчивость, терпение, с каким он вел мою осаду, — разве они не были такими же ясными признаками, как мое злобное кокетство, мое стремление довести до конца жалкую битву, в которой моя враждебность, возможно, всегда была лишь маской ревности? Долго сдерживаемое пламя прорвалось в нас наружу, и, оба пораженные, оба ошарашенные, мы внезапно отдались на волю страсти.
Страсти! Мне понравилось это слово, извинявшее меня, окрашенное какой-то тайной, какой-то ночной неизбежностью, не такой цветистой, но более властной, чем любовь. Я повторила это слово пять или шесть раз, но не успела заметить, что, переходя от нападок к сентиментам, впадаю из одного ребячества в другое. Фурия во мне перешла в наступление: «Страсть! Не слишком-то обольщайся! Что ты с ней будешь делать, скажи на милость? Морис-то твой женат! Да, все мы знаем, что это замечание девушки, а ты перестала ею быть без особых церемоний и очень мало беспокоясь о семейном положении твоего спутника. Но все-таки пора бы поведать о том, почему ты так быстро сбежала вчера вечером, почему ты крутишься и извиваешься вокруг твоего драгоценного прегрешения, старательно умалчивая о главном. Ведь мало того, что он женат, Изабель, твой любовник женат на твоей маме, несчастной больной, которую ты любишь и которая тебя любит, и его она любит тоже… Пасть за тридцать секунд, когда ты неприступная Изабель, — прямо скажем, довольно обидно! Но согрешить с единственным мужчиной, к которому ты не имела права прикасаться, — вот в чем вся черная суть этого дела: кровосмешение, от которого никакая ледяная Эрдра не отмоет рыжих девчонок!»
— Изабель, где ты? — крикнул кто-то со стороны дома.
Я помчалась в обратном направлении. Парк вдруг стал слишком маленьким; я перепрыгнула через насыпь и понеслась по Буваровскому лугу — огромному выпасу, арендованному одним мясоторговцем и усеянному старыми коровьими лепешками, жесткими, как галеты. Голос преследовал меня:
— Где ты, Изабель? Пора!
Что пора? Меня преследовал и другой голос, который было слышно и без помощи ушей. «Беги, девочка, беги, ты постепенно себя догонишь, чтобы лучше слышать! У нас есть еще, о чем поговорить. Ты подумала о том, что не затмила бы свою мать, если бы ее не изуродовало? Мы молоденькие, свеженькие, у нас подвижные колени и твердая грудь. Но для него это лишь новизна, а не красота, а для того, чтобы поддаться дьявольскому искушению, надо лишь испытать воздержание. Держи его крепче, Изабель: шутка сказать, он может сбежать от тебя, если выздоровеет твоя мать…»
В этот момент моя юбка за что-то зацепилась. Я обернулась с глухим криком, но виновата была всего лишь ползучая ветка ежевики, отделившаяся от изгороди, вдоль которой я бежала, не находя выхода. Я посмотрела на свои подмоченные часы, в которых между стрелками, застывшими у цифры «6», плавал шарик воздуха. Было наверняка около восьми часов. Зов возобновился, и вскоре на краю выпаса появился Морис с портфелем под мышкой, все так же окликая меня и размахивая правой рукой.
* * *Ноги у меня стали ватными, я не могла больше шагу ступить. Я с раздражением смотрела, как он меряет поле большими, ровными шагами, старательно ставя ноги между лепешками, — и все это слишком выверенно для походки взволнованного человека, какой она должна была быть. Неужели он настолько уверен в себе, уверен во мне? С самого пробуждения я боялась этой минуты, разрываясь между желанием встретить его в штыки и уткнуться в его пиджак. В тот момент, когда, приблизившись ко мне на несколько метров, он окинул взглядом близлежащие изгороди, удобные для подслушивания, тоска и озлобленность слились во мне воедино, подсказав третью манеру поведения: «Будь с ним мила, не более, будто ничего не случилось, и тогда он сам не будет знать, что делать!»
Но Морис крикнул, наверное, в виде предупреждения, чтобы я не бросилась ему на шею:
— Надо же! Малышка Шазю уже выгоняет стадо.
И сам протянул мне руку, шепча:
— Я не целую тебя, дорогая: на нас смотрят.
Затем сразу же подцепил меня под локоть, беря на буксир:
— Пошли, сейчас только четверть девятого, но сегодня лучше уехать пораньше.
Никаких вопросов, никаких замечаний. Решительно, во всех ситуациях он пользовался одинаковым приемом: тактичность, ненавязчивость, бальзам молчания на тайные раны. Его взгляд не выражал ничего: ни желания, ни торжества, ни гнева, ни удивления, только, может быть, легкую тревогу. Впрочем, он сам в этом признался, все так же шепотом, когда мы вернулись в парк:
— Изабель, я прошу тебя: возьми себя в руки. У тебя все на лице написано, а нам теперь надо быть такими осторожными!
Сообщничество кустарников не подбодрило его, не подало идею обнять меня. Боялся ли он меня отпугнуть или считал, что отныне легче будет делать это в кабинете, чем рисковать в Залуке? Возможно, подготавливая наше «безумие», он уже включил в распорядок дня и свое спокойствие? Я знала, что он принадлежал к людям, обладающим настоящим талантом кондитера и умеющим подсластить самую горькую пилюлю.
Тем не менее, покоренная его спокойствием, я тащилась за ним, не в силах противиться некоторому успокоению. Он же убыстрял шаги, крепко держа меня за руку, по виду исполненный решимости не дать мне наделать глупостей, не отпускать меня от себя. На развилке, вместо того чтобы пойти к Залуке, он свернул к дороге, и вскоре я увидела его машину, стоявшую на обочине. Все было продумано. Морис открыл мне дверцу, усадил меня и спросил не глядя:
— Не хочешь зайти к маме?
Я покачала головой. В первый раз я начинала день, не поцеловав свою мать, но я не чувствовала в себе сейчас сил выдержать это испытание. Морису, похоже, стало легче на душе.
— Ты права, — сказал он. — Уедем, ни с кем не прощаясь. Вечером что-нибудь напридумываем. Я уже сказал Натали, что мы должны уехать раньше. Я подозревал, что ты будешь не в своей тарелке.
На этом эвфемизме он рванул машину с места и помчался в Нант. Стрелка на спидометре показывала около ста. Такая спешка уже говорила о том, что его уверенность имела свои границы. В машине нам больше нечего было опасаться нескромных глаз, и он мог бы, должен был бы найти подходящие слова, чтобы развлечь мои мысли. Но он молчал, вцепившись в руль, словно вел машину по краю пропасти. Он молчал изо всех сил, удовольствуясь тем, что время от времени бросал мне улыбку — слишком короткую, намеренно лишенную всякого выражения, чтобы случайно не выразить одного — огромного замешательства, стараясь ввести меня в заблуждение и выиграть время.
Когда мы очутились в кабинете, все, естественно, изменилось. Я уже подозревала, чего хочет Морис. Повторная провинность уже не так тяжела, упреки совести не так слышны. Взять девушку дважды уже не значит застать ее врасплох, и это лишает ее аргументов против соблазнителя. Кроме того, как лучше ответить на любовь, нежели любовью, когда она запретна и ее единственная надежда — напоить собою кровь? Едва за нами закрылась дверь, как Морис обхватил меня рукой и приник ко мне в изнуряющем поцелуе. Ему пришлось отпустить меня, чтобы снять трубку и отменить все запланированные встречи. Но, разделавшись за три минуты со всеми делами, он снова вихрем налетел на меня, забившуюся в большое кресло для посетителей, обзывая себя сукой и приняв решение закричать, что мы изверги, что я согласилась ехать с ним, только чтобы ему это сказать, что я хочу уйти отсюда… На самом деле мне удалось произнести только семь слов:
— Но, Морис, что же нам теперь делать?
— Любить! — сказал он нахальным тоном.
Его руки уже боролись с моими, скоро ослабевшими от этого ненавистного наслаждения, снова принявшегося сочиться у меня изо всех пор. Что я могла поделать с этим гепардом, радующимся тому, что он настиг свою лань, опаляющим ее взглядом и рычащим ей на ухо в тот единственный миг, когда любое извинение приемлемо, единственный довод, пришедший ему в голову:
— Перестань, перестань, Изабель. Я знаю все, что можно сказать. Но раз уже зло сотворено, не порти нам остального.
XVII
Надо было все-таки возвращаться, и Морис отвез меня домой по той же дороге, с тем же серьезным видом.
Но все его жесты стали мягче, увереннее. Пока что победил он: я тоже желала лишь одного — молчания. Наверное, мы были далеки от того жаркого сообщничества, того безразличия двоих к остальному миру, в котором находит успокоение бурная страсть, независимо от того, имеет она право на существование или нет. Наше совместное одиночество по-прежнему было поединком, прерываемым ненадежным перемирием, когда Морис терял свое превосходство и пытался защититься от моих укоров, снова потопляя их в блаженстве. Но таким образом ему удалось заставить замолчать во мне то, что еще оставалось от вчерашней девочки, задыхающейся от своего прекрасного стыда, ошеломленной внезапным обретением целомудрия вместе с этой острой благодарностью, этой нежностью всей ее кожи, этим наслаждением дышать в одном ритме с другим телом, благодаря которому ей только что открылась настойчивость ее собственного. Он добился своего: я на самом деле стала его любовницей. Я более не могла пребывать в неведении того, что толкнуло меня в его объятия, и, стоя на краю пропасти, которая, какой бы волшебной она ни казалась временами, все-таки оставалась пропастью, испытывала только одно желание: отринуть всякие мысли, предвкушать, ждать, закрыв глаза, сомкнув объятия.