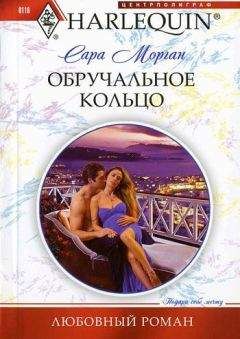Грейс Тиффани - Кольцо с бирюзой
— Что пообещаешь? — спросила Джессика испуганно.
— …первый платеж от того, что однажды он получит сполна, но только если женится на тебе. Ты должна будешь дать ему немного больше, чем поцелуй.
— Но только не многим больше, — предусмотрительно сказала Джессика. — Это может нарушить все мои планы. Я ведь не шлюха.
— О, — бросила Нерисса. Голос ее слегка похолодел.
— Извини меня, — быстро произнесла Джессика, касаясь руки подруги.
Нерисса улыбнулась со своей обычной теплотой.
— Пустяки. Во всяком случае, ты права. Стоит ему только попробовать наживку на вкус, и твоя форель на крючке. Играй ею. — Нерисса немного посидела молча, катая в ладонях ножку бокала. — «Моя очаровательная язычница», — так он называет тебя. Тебе нравится?
— Он будет называть меня по-другому, когда я стану христианкой.
Нерисса резко отставила бокал.
— Ну, дай Бог ему мудрости и милосердия. Сейчас он дурак, как и все они.
— Кто?
— Мужчины в этом городе.
Что-то заставило Джессику сказать, будто оправдываясь:
— Мой отец не дурак.
Нерисса проницательно взглянула на нее и кивнула.
— Нет, — согласилась она. — Он — не дурак. Так что будь осторожна.
* * *Когда повернулся ключ в замке двери, ведущей к их комнатам наверху, Джессика спокойно сидела на скамье, читая стих из Торы, в котором обещалось, что Господь будет очищать детей Левия, как золото и серебро. Она встала и неохотно приветствовала отца, скрыв недовольную гримасу при виде его длинной бороды.
Размотав тюрбан с густых каштановых волос, Шейлок снял свой черный габардиновый плащ и положил на стол молитвенник, который по привычке носил с собой. Даже без знаков отличия, которые Венеция заставляла его демонстрировать, он все равно не был похож на других горожан, с которыми вел дела. Он выглядел даже не так, как многие евреи, большинство из которых, не считая предписанной законом одежды, стремились как можно больше походить на своих сограждан-христиан.
Но, за исключением деловых отношений, ее отец избегал общества неверных и был рад, что отличается от них.
Стол был накрыт. Явившись домой после двух, Джессика, стараясь выполнить свои обязанности, которыми пренебрегла этим утром, накрыла на стол к ужину: мясное блюдо, не испорченное сыром, к которому подала миску с луком и спаржей. Ланселот Гоббо этим утром сносно выполнил свою работу, и она была рада, что не воспользовалась его услугами, выходя за пределы гетто. Им пришлось бы больше суетиться во второй половине дня, если бы она взяла его с собой.
Отец кивнул ей, моя руки в тазике. На лестнице у него за спиной послышались голоса, и она вздохнула, узнав голос раввина Амоса Мадены, который теперь будет долго распространяться насчет Торы.
— Нас трое, — сказал отец, улыбка оживила его темнобородое лицо. — Троица.
* * *Против своей воли Джессика была втянута в беседу с гостем отца, человеком по имени Бенджамин Ха-Леви из Амстердама. Он торговал шелком и прибыл в Венецию присмотреть за торговлей. Такой же высокий, как и Шейлок, только гораздо светлее и, что было необычно, с голубыми глазами. Он был тадеско, еврей польского происхождения, более крупный и светлый, чем любой из евреев с севера, живущих в гетто. На хорошем итальянском он обменивался с отцом мнением о ценах и объемах сделок, а раввин Мадена слушал, смеялся и говорил, что Шейлоку Бен Гоцану нужно было бы изучать с ним каббалу, потому что все их головокружительные цифры звучат более мистически, чем его собственная система цифровых символов.
— Не каббалой, — сказал Ха-Леви, указывая на Шейлока. — Он должен был бы стать торговцем. Торговцем товарами.
— Я им был, — сухо заметил Шейлок, пробуя суп, который Джессика подала на стол. — Я ткал шерсть и продавал ее в Толедо. И у меня хорошо получалось.
— Ах, здесь считается, что евреи ничего не могут, кроме как торговать, обычно поношенной одеждой или дают деньги в рост под проценты.
— Это я тоже умею.
— Горожане отвергли бы вас, родись вы здесь, и не разрешат заниматься честной работой, — поддразнил Ха-Леви.
— Я родился не здесь, и моя работа — честная, — коротко возразил Шейлок.
— А вам не надоедает жить за стенами гетто?
— Мне — нет, — сказал раввин Мадена. — Стена — это как ограда, которую мы воздвигаем вокруг Торы в своей жизни. Проще не нарушать Закон, не смешиваясь с остальными. Он улыбнулся Шейлоку. — Не слишком смешиваясь.
— А я устаю от стен, — бросил Шейлок.
Раввин слегка нахмурился.
— Боюсь, Шейлок однажды отправится дальше на восток в Турцию, или Константинополь, или даже в Иерусалим. Нашим людям будет очень не хватать его. Он столп левантинской синагоги и опора сиротам, потерявшим отцов.
— Детям нужны отцы, — сказал Шейлок, метнув жесткий взгляд на Джессику.
«Я уже не ребенок», — подумала Джессика. Она смотрела в тарелку и ничего не сказала.
— Синьору Шейлоку стоило бы поехать на северо-запад, — сказал Ха-Леви. — Например, в Амстердам. Там религия — деньги и единственная ересь — банкротство.
Шейлок на это рассмеялся, как и Джессика. На миг обида улеглась, отец и дочь переглянулись, в их взглядах мелькнула теплота, что случалось редко. Шейлок снова взглянул на своего иностранного гостя.
— Я приехал в Венецию, чтобы научиться быть евреем, — сказал он, криво улыбнувшись. — Вы хотите, чтобы я обратился в новую веру?
— Я не предлагаю вам этого, синьор Шайлох, вас ведь так зовут?
— Нет. — Шейлок пожал плечами. — Так называют меня обезьяны Блистательной Республики Венеции. Я — Шейлок.
— Я буду называть вас так, как вы сами себя называете, — Шейлок Бен Гоцан. Ну а теперь позвольте мне сказать вам вот что. В этот год Господа нашего тысяча пятьсот девяностый… пардон — сказал он, заметив, как напрягся его хозяин, — …год их Господа, в это время церковного раскола я говорю: есть разные способы быть христианином. Почему не может быть разных способов быть иудеем?
Джессика с новым интересом посмотрела на мужчину. Но глаза ее отца оставались жесткими, а взгляд скептическим.
— Por su camino, — сказал он. — Каждому своя дорога. Я говорю, есть один способ быть иудеем. Я двадцать два года учился этому.
— Но разве нельзя оставаться евреем, можно быть им и в других местах? Вы можете это допустить?
— Да, это мы допускаем, — согласился раввин Мадена.
— Но не в Амстердаме, — возразил Шейлок. — Испания все еще держит руку на пульсе Голландии. Я не хочу снова жить под испанским флагом. Я скорее соглашусь платить налоги османам.
— До этого не дойдет после Лепанто[38], — сказал Ха-Леви. — Испанцы тоже недолго останутся на севере после взбучки на море, которую англичане задали им два года назад.
У Джессики непроизвольно вырвалось:
— Здесь говорят, что взбучку Испании задал шторм, англичанам же просто повезло.
Как она и ожидала, ее отец нахмурился при этом неуважении к его драгоценным англичанам. Но Ха-Леви широко улыбнулся ей. Казалось, он доволен и удивлен, что запертая в гетто девушка знает кое-что о событиях в мире. Но почему бы и нет? У нее есть уши. Она слышала разговоры на улицах Венеции.
Ха-Леви помахал ложкой.
— Юная госпожа, возможно, вы и правы, но, будьте уверены, на суше армии протестантов тоже побеждают. Не пройдет и года, как Англия прогонит Испанию из Нидерландов.
— Может быть, — задумчиво проговорил Шейлок. — Может быть.
— А между тем голландцы совсем не похожи на испанцев. Иудеи исповедуют там свою веру открыто. Они живут бок о бок с маврами, и католиками, и кальвинистами.
— Кальвинисты! — повторил Шейлок, улыбаясь какому-то воспоминанию. — Похожи на лютеран, но для папы они еще хуже!
— Что вам известно о лютеранах? — удивленно спросил Ха-Леви, смахивая с бороды кусочек оладьи. Джессика поймала себя на том, что внимательно рассматривает его северный наряд: темная одежда, но сшита исключительно хорошо. Она вспомнила его красивую кожаную шляпу с белым пером, которую вешала на крючок. Воротник мужчины был из кружев, и на его плаще из толстой шерсти, который она повесила под шляпу, не было красного значка. Иностранец в Венеции, он получил разрешение на время своего визита одеваться как нееврей. Город ослабил для него свои законы, потому что и Нидерланды и Венеция получали от этого выгоду. На улице она никогда бы не догадалась, что этот человек — еврей.
Мужчина носил обручальное кольцо. Она закрыла глаза и, завидуя, представила себе его жену дома, одетую в дрезденские кружева и очаровательный голландский чепец.
— Я мало что знаю о лютеранах, — сказал Шейлок. — Однажды я встретил одного в Испании, в Вальядолиде. Я продавал им шерсть, и они доверяли мне как партнеру. Из любопытства я сходил на их собрание. Странное дело! Голое помещение, без распятия или чаши. Они молились, и пели, и читали послания Назарея. Потом они плевали на Рим. — Он засмеялся. — В этом я тоже участвовал. Это они научили меня нашему празднику Маккавеев, которые очистили храм в три тысячи пятьсот девяносто пятом году, когда греки установили в нем свою статую Зевса. Выкинули Зевса, а за ним и греков! Лютеранам нравился Иуда Маккавей.