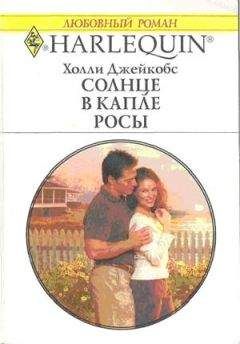Эрве Базен - Кого я смею любить
— Письмо от мамы! — повторила она через три шага, гордая тем, что может прочитать по складам: «Для ма-дам На-та-ли Ме-рья-дек!»
— Дай сюда! — резко сказала адресатка, вырвав у нее конверт, покрывшийся от мороси голубоватыми пятнышками, и сумела распечатать его, по-прежнему держа на нужной высоте свой драгоценный зонт.
Письмо отодвинули, придвинули, снова отодвинули, насколько того требовала лишенная очков дальнозоркость, затем началось его разбирание при молчаливой помощи губ. И тут же я увидела, как нахмурились брови Натали. Она регулярно их хмурила уже три недели при получении каждого «личного» письма, отправленного из Бернери, где мама проводила отпуск без нас. На этот раз новости должны были быть посерьезнее и содержать в себе объявление о той развязке, которой все мы страшились уже несколько месяцев, но никогда о ней не говорили. Зонт заскользил вниз. Когда Натали, легонько повернув голову, перешла ко второй странице, он приспустился еще. На третьей он совсем упал и наделся на шляпку, как гриб на ножку.
— Господи Боже мой! — прошептала Натали.
И вдруг, выставив зонт перед собой, как щит, она преодолела подъем, устремилась по гвоздичной аллее к дому с черепичной крышей, освеженной ливнем, который хлестал по дикому винограду. У двери она даже не вытерла ног. Что-то клокотало у нее в горле, как в водостоке: что-то, что наконец смогло обратиться в слова, когда, шлепая грязными башмаками по священным плитам кухни, она складывала зонтик и выкладывала рыбу из кармана, бросая ее затем в раковину.
— Девочки, мне нужно сказать вам одну вещь!.. Ваша мама возвращается послезавтра. Она сообщает мне также, что приняла решение. Из этого я заключаю, что она…
Глаза вылезали у нее из орбит, но новость никак не могла сорваться с ее губ. Она посмотрела на стенные часы, не знаю зачем. Она посмотрела на Берту — охавшую, ахавшую, расплывавшуюся в улыбке. Она и на меня посмотрела — пристально, словно призывая в союзницы, сглотнула слюну и бросила мне в лицо:
— Да что там! Она снова выходит замуж.
— Замуж? — переспросила Берта, недоверчиво и простодушно.
— Она в разводе, ей можно, — бросила Натали. — К несчастью, можно! Господь запрещает, но закон разрешает. Хорош закон!..
Резко отвернувшись, она схватила щипцы, включила все три конфорки на плите и без видимой необходимости принялась ворошить уголь. В ярости она стискивала зубы, чтобы ничего более не сказать. Но это было выше ее сил, она задыхалась в своем корсете, ей непременно надо было на кого-нибудь наброситься, и, слава Богу, она накинулась на нас.
— Да подай же котел, Берта, — крикнула она. — А ты, Иза, чего зеваешь? Рыбу выпотроши!
Я прошла мимо нее, как тень. Тогда она очень быстро добавила вполголоса:
— Ты ведь догадывалась, а? Знаешь, о ком я говорю?.. Иосиф! Она выходит за своего Субботу.
Острота меня не рассмешила. Не говоря ни слова, я подошла к раковине — красивой белой раковине, которую семью годами раньше установила бабушка взамен старой, керамической. Очень острый, хорошо наточенный кухонный нож, любовь Натали, валялся на половике. Я схватила его и резким ударом вспорола брюхо щуке, откуда вывалилась плотвичка.
II
Лучше признаться сразу: я рыжая, и в лицо мне словно дробью выстрелили. Немилость природы, делающая меня чувствительной к малейшим намекам! Если я посмею обсуждать бешамель Натали, та знает, как отомстить. Ей стоит только сказать:
— Ну конечно! Морковки не хватает.
И в этот миг я ее люблю, можете мне поверить! Ведь этот «пигмент» портит вам не только кожу. В восемь лет, сидя за партой маленького класса, я уже поняла: не так страшно поставить пятна на тетрадку, как носить их на лице.
За этим исключением мне не пристало жаловаться на природу, не поскупившуюся на остальное. У меня есть силенки, и голова на плечах, и здоровье, да такое, что я не припомню, чтобы когда-нибудь пользовалась термометром или даже лечилась от панариция[2]. Неплохой список, как видите, и его еще, наверное, следует дополнить из благодарности к моим добрым феям, упомянув о моих зеленых глазах, хоть и с чуть поджаренными ресницами, моих тонких щиколотках, предмете моей гордости, а главное — об этой жажде жить, пробуждающей в тебе желание отведать всего, и этой страсти быть, околдовывающей твое дыхание, когда каждый раз чувствуешь, как воздух проникает в легкие. Я не старая, конечно, но я часто задумываюсь о том, как бы я могла когда-нибудь стать старой. Меня все еще интересует этот вопрос. Я родилась молодой и, если потребуется, охотно умру до срока, чтобы такой и остаться.
Эта молодость, однако, протекала только в одном старом доме. Я и не мечтаю о других, я даже не понимаю этих новых построек с жесткими углами, броской штукатуркой, вычурными садами, которые засажены деревьями, живущими только на компосте и не уходящими корнями в прошлое. Наш дом, Залука, в десяти километрах от Нанта, между Ла Шапель и Каркефу, был, да и есть жилище. Я в нем родилась, и моя мать, и бабушка. Один из предков поселился здесь сразу после Вандейского восстания[3] на «церковной земле», приобретенной во время распродажи национального имущества, чья покупка терзала угрызениями совести три поколения Мадьо, пока забвение, привычка и постоянный достаток не позволили им занять место среди достопочтенных семейств нашего местечка. Впрочем, со времен Империи[4] Залука — первоначально простой куб из туфа, покрытый шифером, — сильно изменилась. «Распахнула крылышки», — как говорила бабушка, указывая своим печальным носом на маленькие низкие крыши, расходящиеся от дома по бокам и делающие его похожим на курицу с ощипанной шеей, отогревающую своих цыплят (ощипанная шея — это печная труба). У нее появилось даже что-то вроде хвоста, не очень удачного, в виде кирпичной пристройки, где воцарился бак для стирки. Всю эту разношерстность объединяет только буро-зеленая штукатурка под диким виноградом, неустанно наседающим на водосточные трубы, а с наступлением зимы еще укрывающим стены, питая их широкой сетью вен.
Прекрасный символ! Однако этот дом уже давно потерял другую свою сеть — проселочную империю дорог и тропинок, ветвившуюся на сотне моргов[5] земли. Прежняя усадьба, отошедшая, как многие другие, к обрабатывавшим ее фермерам, сжалась, словно шагреневая кожа. Остался только этот маленький парк, расположенный полукругом на берегу реки: в общей сложности не больше гектара, четверть которого уходит на заросший травой «огород», а остальное — на кустарники и ежевичник с редкими уцелевшими после вырубок высокими одинокими елями, чьи верхушки кончаются, а в норд-вест качаются в пасмурном небе, порой немного измаранном там, вдалеке, со стороны большого дымящего города.
Это все, если не считать сраженный молнией каштан, истекающую смолой вишню и череду сиреневых кустов, беспрестанно наступающих на лужайку, чья дикорастущая трава глушит последние нарциссы и последний розовый куст, превращающийся в шиповник. Здесь дикое берет верх над домашним, и это становится еще нагляднее, если обратиться к другому царству и взглянуть на крадущегося кота, нескольких кур, несущихся под кустами, а повсюду — бродяг, кочевников, проносящихся поверху или понизу: всех этих птиц, всех насекомых и, по случаю, белку, бегущую к орехам, ласку, ползущую к яйцам, мальчишку, лезущего к гнездам.
* * *И еще мужчину, едущего к нам. Ведь Залука уже полвека как дом женщин, которым слабые здоровьем или непостоянные мужья смогли, мимоходом, сделать только дочерей. Все на это указывает: этот самый сад под плохой защитой слишком нежных рук; эти заржавленные петли, эта штукатурка, осыпающаяся за неимением хорошего мастера; весь этот заброшенный экстерьер, контрастирующий с интерьером, благоухающим мастикой, где сияет медь, водруженная на старинную мебель, сверкающую спереди и плесневеющую сзади в ожидании сильных рук, способных ее передвинуть.
Этих женщин — по крайней мере тех, кого я знала, — было пять, три из них живы. Я рано потеряла бабушку, последнюю Мадьо, осиротевшую в двадцать лет, а в двадцать два ставшую вдовой адвоката-стажера из юридической конторы в Нанте. Убитый на Марне, он успел только подарить ей посмертного ребенка: мою мать, Изабель Гудар. Бабушке выпало умереть во время другой войны от неудачно расположенной раковой опухоли, не дававшей ей сидеть. Я помню ее, как помнят фотографию: я всегда видела ее только в черно-белом. Цепляясь за свою пенсию, свои четки, память своего героя, она жила стоя — сухая, торжественно худая и почти никогда не покидавшая своего «салонного «кресла, под рамкой, украшенной трехцветной кокардой, с портретом маленького сержанта егерей в оригинальном мундире — такого белокурого, такого кокетливого, что ему очень трудно казаться дедом. Бабушка же, хотя внешне подходила на свою роль, играла ее не лучше. Профессиональная вдова, она никогда ничем в доме не занималась, переложив все — хозяйство, кухню, даже авторитет — на плечи Натали, другой вдовы, чья преданность, впрочем, казалась ей не столь ценной, как неоценимая рекомендация, состоявшая в знакомстве с моим дедом. Бабушка выступала только в качестве плакальщицы — во время посещений кладбища или церковных служб. Мы любили ее, так как она была рассеянно добра; но ее смерть, явившаяся для нее избавлением, стала тем же и для нас. Одно ее присутствие заставляло нас устыдиться нашего смеха, наших игр, которым она противопоставляла молчаливое вязание, затуманенные взоры или только эту томную посадку головы, с наклоном влево, отчего казалось, будто она постоянно прислушивается к своему сердцу. Стоит ли говорить? Долгое время я надеялась, что ничего от нее не унаследовала, и сегодня злюсь на нее за то, что не так в этом уверена, что припоминаю раздражающую романтичность, гортанный приступ, с которым она порой шептала, раздвигая мне пальцы: