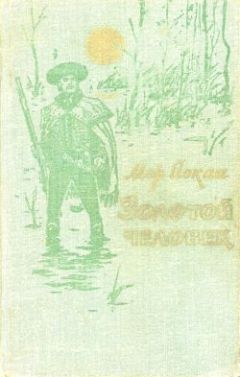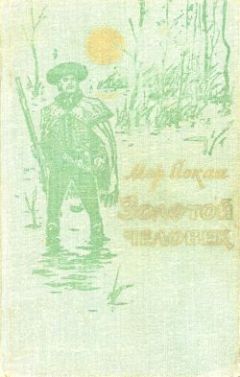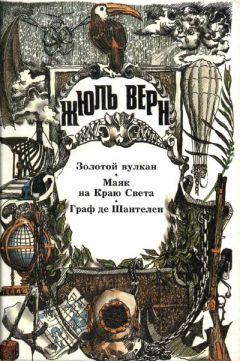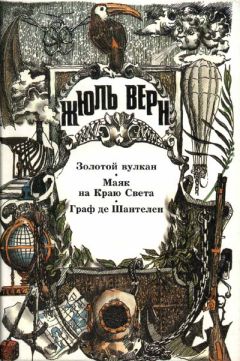Жорж Сименон - Большой Боб
— Мы уже больше трех недель жили вместе, как вдруг он ни с того ни с сего заявил: «Знаешь, когда тебе надоест, можешь с чистой совестью уйти от меня».
Люлю растроганно улыбнулась.
— Я дура была тогда. Вся изревелась, решив, что он собирается бросить меня. Стала собирать чемодан.
— И чем все кончилось?
— Не помню. Наверно, постелью.
— Это произошло на улице Принца?
— Нет. Там мы прожили только до конца месяца: за квартиру все равно было уплачено. Боб решил переехать в меблированные комнаты на бульваре Батиньоль, в двух шагах от площади Клиши. В других районах он не искал. У него были какие-то свои соображения.
— Он работал?
— Нет. Необходимости не было. Потом я узнала, что они с сестрой унаследовали от матери три фермы во Вьенне, и Боб получал половину дохода от них. Долго на эти деньги было бы не прожить, но они позволили ему осмотреться.
— Он и сейчас имеет долю в этих трех фермах?
Я не решился вымолвить: «Он до самой смерти имел долю…»
— Нет, что ты! Когда я с ним познакомилась, он уже собирался отделаться от них. И знаешь, почему?
Я догадывался, но решил: пусть сама скажет.
— Потому что они мешали ему чувствовать себя свободным. Он часто повторял, что эти деньги не в счет — они достались ему случайно, и он хочет от них избавиться.
— Он мог бы их подарить.
Люлю с недоумением посмотрела на меня. Боюсь, в этот миг я был близок к тому, чтобы навсегда утратить ее доверие: в душе она так и осталась крестьянкой.
— Кому?
В голосе ее зазвучало раздражение.
— Да кому угодно. Сестре, например.
— Так сестра и зять, когда поженились, как раз и откупили у Боба его долю. Эти фермы, должно быть, и сейчас принадлежат им; даже не представляю, сколько они стали стоить после войны и девальваций.
— Что же он сделал с деньгами?
— Часть — которые получил от сестры авансом — потратил. На оставшиеся купил эту лавку.
Меня всегда занимало, как они провели первые годы совместной жизни, а когда я узнал, что Боб — сын профессора Дандюрана, любопытство мое разгорелось еще сильней.
— Короче, вы недолго прожили в Латинском квартале?
— Боб не любил Левый берег[4].
Для первой остановки на житейском пути он выбрал из всех районов Парижа тот, где сходятся границы владений мелких буржуа, рабочих, чиновников, а также богемы и бездельников и где жизнь течет особенно бурно.
— Мы снимали маленькую комнатку на шестом этаже с водопроводом, но лифта в доме не было.
— И что вы делали целыми днями?
— Мы много гуляли. Без меня он никуда не ходил, хотя ни разу не спросил, куда бы мне хотелось пойти, не устала ли я, не хочу ли пить. Он привык, что я рядом, и, случалось, часами напролет молчал, а то вдруг говорил, говорил, ничуть не интересуясь моими ответами.
Мы заходили в бистро, самые крохотные, самые темные: Боб любил их атмосферу, любил слушать разговоры людей за стойкой — рабочих в спецовках, окрестных лавочников, заглянувших промочить горло. Ели мы обычно в закусочных для шоферов, там всегда пахло жареным луком и меню писалось на грифельной доске.
Вечерами он сидел в комнате и писал.
— А что писал?
— Мне он говорил — всякие заметки для памяти. Только много позже признался, что это был роман.
— Он хотел стать писателем?
— Ему хотелось заниматься чем-то для себя, все равно чем. Хотелось описать Париж и простых парижан так, как он их видел. Однажды в баре на площади Бланш, кивнув на бармена, он уронил: «А я бы не прочь работать за стойкой, как этот».
И очень разобиделся, когда я расхохоталась, — я-то была уверена, что он шутит.
А как-то в другом кабачке, глядя на трех каменщиков, пьющих красное вино, заявил: «У них одна из лучших профессий в мире. Не бойся я высоты…»
Он читал объявления в газетах, некоторые вырезал и складывал — про запас.
— А о своей семье он никогда не говорил?
— Всего раз, незадолго до праздников, числа десятого-пятнадцатого декабря. Мы переехали в гостиницу на улице Лепик — Боб называл ее самой человечной улицей на свете. Комнаты на втором этаже хозяйка сдавала — как она выражалась, «на время» — девицам, которые начиная с трех часов дня поднимались туда на несколько минут с клиентом. Проституция еще не была запрещена. Мы их всех знали в лицо, и когда бывало особенно холодно, случалось, что Боб ставил им по стаканчику грога в кабачке на углу.
Он купил спиртовку, и мы могли готовить в комнате. Это не разрешалось. Когда спиртовка горела, одному из нас приходилось караулить на площадке, а потом надо было настежь открывать окно, чтобы выветривать запах пищи.
Боб отнес страниц пятьдесят, уже написанных им, машинистке, которая работала на дому; гуляя по бульвару Рошешуар, мы увидели белую табличку, сообщавшую, что здесь принимаются заказы на перепечатку. Выйдя от машинистки, Боб объявил: «Завтра едем в Пуатье». — «Я тоже?» — «Тоже». — «Уж не собираешься ли ты представить меня отцу?» — «Ты подождешь меня в отеле. Это займет час или два, не больше».
Вас, Шарль, это удивляет. Вы привыкли, что он всегда шутил, всех веселил. Но в двадцать четыре года такое с ним бывало редко, а уж если он начинал шутить, я или не понимала его шуток, или они мне казались слишком желчными. Иногда я спрашивала его: «Почему ты никогда не расскажешь, о чем думаешь?» — «Потому что ни о чем не думаю». — «Так не бывает, чтобы ни о чем не думать». — «Ну, раз я не думаю, значит, бывает».
В Пуатье мы поехали дневным поездом, и, выйдя из вокзала, Боб вдруг остановился перед ювелирным магазином.
«Чуть не забыл: у сестры день рождения!»
Он купил ей золотую заколку для волос, гладкую, без украшений. А когда расплачивался, заметил дешевое колечко со светло-голубым камешком и орнаментом вокруг и тоже купил; приказчик хотел завернуть его вместе с заколкой, но Боб сделал знак — дескать, не надо — и, не глядя, протянул колечко мне.
«Это мне?» — «Да».
Колечко чудом пришлось мне впору. Оно и сейчас у меня, только стало мало, верней сказать, пальцы у меня распухли. Надо бы на днях отдать его растянуть. Это был первый подарок, который мне сделал Боб. Потом он отвез меня в отель, но сам пробыл там недолго: только умылся да причесался. Помню еще, что он почистил туфли полотенцем.
Он обещал прийти через час-другой, а вернулся после полуночи; я, зареванная, лежала ничком на кровати в полной уверенности, что его семья добилась, чтобы он навсегда остался с ними. Наверно, я уже тогда любила его. Мне вот думается, а не полюбила ли я его в первый же день, на террасе «Аркура». Такое может быть, Шарль?
— Почему же нет?
— Тогда, возможно, он сказал мне это не только потому, что хотел сделать приятное, — помолчав, задумчиво проговорила Люлю.
— А что он сказал?
— Это произошло несколько лет спустя уже в этом доме. У меня только что случился выкидыш, я пала духом, тем более что всякий раз после этого я страшно дурнела и какое-то время ни на что не была годна. Весь вечер мы провели вдвоем, вот как сейчас с вами. Такое бывало редко. И я спросила его, спросила очень серьезно: «Боб, ты уверен, что любишь меня?»
Ответ его прозвучал так непосредственно, что мне стало радостно: «Черт возьми, еще бы!» — «А за что?» — не отставала я. «Вот этого, девочка, я не знаю». — «А когда ты меня полюбил?»
Боб стоял. Он ведь никогда не мог долго усидеть на месте, словно не знал, куда девать свои длинные ноги. Уставившись в пол, он задумался.
«Хочешь знать, когда я это понял?» — «Да». — «Это было еще на улице Принца, когда ушел отец и я, возвратясь в комнату, увидел, что ты стоишь одетая, в шляпке, и держишь в руке туфли. И тут меня осенило: а я ведь мог обнаружить комнату пустой и даже не знал бы, где тебя искать».
Я уж не стала ему напоминать, что он знал адрес своего приятеля, куда, как нетрудно догадаться, мне пришлось бы зайти за вещами.
Потом я часто думала, что он так сказал, чтобы сделать мне приятное. Но теперь, раз вы утверждаете, что такое может быть…
Люлю то ли обиделась, то ли огорчилась — я это почувствовал, — что в ту ночь в Пуатье Боб не рассказал, как прошло свидание с отцом и сестрой.
«Она красивая?» — спросила Люлю у Боба.
«Ничего». — «Высокая?» — «Почти как я». — «Сколько ей лет?» — «Девятнадцать». — «А как ее зовут?» — «Жермена. Слушай, может, поговорим о чем-нибудь другом?»
Вот и все, что ей удалось узнать, причем по виду Боба было не похоже, чтобы он поссорился с отцом. Начав раздеваться, Боб взглянул на часы.
«Четверть первого. Байоннский поезд проходит здесь в час двадцать. Мы успеем на него. Одевайся».
Ехали они третьим классом — не из экономии, а потому, что так хотелось Бобу.
Я поинтересовался:
— Вы и дальше продолжали ездить в третьем классе?
— Некоторое время — да. Потом Боб перешел на второй.