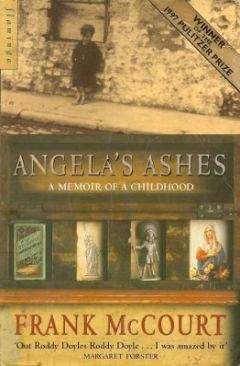Федерико Тоцци - Закрыв глаза
Потом пожевала губами, будто слюнявила дратву, собираясь вдеть в иголку.
Чтобы извлечь письмо, написанное под диктовку Гизолы кем-то из родни, поскольку сама она писать не умела, конверт неровно общипали по краям, и это покоробило Пьетро. Он прочел все письмо вслух: ее родители переболели корью, у тети Джузеппы не хватало молока для дочки.
Тогда он спросил:
— А где фотография?
Маза засмеялась, и эта ее вольность была ему по душе. Смеясь, она хлопала себя по бокам кулаками. Видны были ровные, еще белые зубы.
— На той неделе завалилась за комод, когда я пыль стирала.
И в самом деле, под вереницей святых, развешанных по стене вдоль бечевки, он заметил темно-синюю бархатную рамку — пустую. Это пустое место с белым листочком его умилило.
— И до сих пор так и не достали?
Теперь он был твердо намерен ее увидеть. Ему казалось, это его долг.
Но Маза, не желая, чтобы ее упрекали, возразила:
— Успеется еще! Кому об этом думать? Утром встаем рано, а вечером, как устанем, уже и сил нет.
— Я сам отодвину комод.
Когда требуется оказать уважение, он тоже берется за работу!
— Не пугайте меня!
Но прежней враждебности в ее глазах не было — в них была нежность, пусть смутная и неоднозначная.
— А что?
— Комод тяжелый, еще надорветесь. А я буду виновата.
Когда она о нем говорила, Пьетро казалось, его сейчас просунут куда-нибудь, как нитку в иголку.
— Не пугайте меня!
— Ну тогда помогите!
Они бы непременно поссорились, но тут она принялась убирать с комода, неторопливо, одну за другой, все безделушки: фарфоровую вазу с отбитыми краями, в которую была всунута толстенная охапка цветов, восковое изображение святой Екатерины под стеклянным колпаком, зеленоватый и мутный осколок зеркала.
— Потерпите, я сейчас.
Пьетро потянул на себя источенный жучком комод, зажатая между ним и стеной фотография упала на пол. Он поднял ее и, не отрывая глаз, понес к окну: сердце оборвалось, будто рядом ударила молния.
— Видите, какая красавица выросла? Теперь бы она вам точно понравилась!
Пьетро мгновенно понял, что значило «красавица». Сердце заколотилось быстрее, в блаженной истоме. Он ничего не ответил — губы дрожали.
Маза, часто моргая, не сводила с него глаз, будучи не уверена в том впечатлении, что произвел на него снимок. Она пихнула его в плечо:
— И что будете делать с фотографией?
Она боялась, что он захочет ее забрать, но Пьетро бы на такое и не осмелился — вдруг Гизоле бы это не понравилось. Он ответил не своим голосом:
— Вставьте ее обратно в рамочку. И смотрите: больше не роняйте.
Маза с облегчением согласилась и смахнула тряпкой наросшую на стене паутину. Пьетро сам повесил фотографию на место и придвинул обратно комод.
— И письмо тоже не выкидывайте.
— Сказать по правде, обращайся она с нами получше… я бы ее больше любила.
Пьетро резко дернулся — такого движения она за ним раньше не замечала — и она поправилась:
— Но я все равно ее люблю.
— Что она вам сделала? Вот скажите: что такою она могла вам сделать? Вы все выдумываете!
— Не скажу — это кроме нас с ней никого не касается.
Она обиделась, что ей пришлось отослать внучку! И быстро прикусила несколько раз нижнюю губу.
— Только молчите, не говорите никому, даже Ребекке, что я вам ее показала. Сейчас уходите, и не дай бог хоть кто-нибудь догадается!
Он вышел. И понял внезапно, что влюблен в Гизолу, и это не было ни странно, ни тягостно — ни капли. Наоборот, будь он твердо в этом уверен, он бы тут же признался Мазе. И разъяснил бы, что речь здесь, по сути, об устранении социальной несправедливости, и что этой задаче он посвятит себя с радостью. Разве не честно, чтобы и она стала богатой?
Через три дня он вернулся в Поджо-а-Мели.
Груша бросала на залитый солнцем сарай слабую, неподвижную тень. И все же эти полосы тени дрожали, как в лихорадке — они пульсировали и бились, как его иены, как кипящая вода.
На крыше навеса, скат которой заканчивался всего в метре от земли и просматривался весь, непонятно как вырос раскидистый куст шириной метра в два: одно растение с колючими листьями и бессильно поникшим на ножке цветком чуть не влезло в другое. Рядом валялись оплетка от бутыли и два ржавых серпа. Там же, меж двух камней, Карло выдерживал на солнце пузырек с засунутым в масло скорпионом — этим средством он лечил порезы.
Пьетро разглядел на верхушке крыши выгоревший на солнце, прибитый дождями лоскут: половинку юбки Гизолы.
Он пошел к Мазе и сказал:
— Покажите мне еще раз фотографию.
Он глянул на нее — не снимая, чтобы старуха не обиделась и не написала об этом внучке.
Гора Монте-Амиата казалась мягкой, будто вот-вот растечется.
Пьетро, хилый и болезненный, всегда вызывал у Доменико стойкую неприязнь. Теперь этот тощий бледный парень был в его глазах полностью непригоден для дела — сущий идиот!
Он проводил пальцем по жилкам, выделявшимся на его гладкой, тщедушной шее — и Пьетро опускал виновато глаза, будто прося прощения. Но эта безропотная покорность раздражала Доменико еще сильней. И ему хотелось поглумиться над сыном.
Ох уж эти книги! Растоптать их в лепешку! Завидев в руках у Пьетро книги, он порой не мог удержаться — вырывал их и швырял ему в лицо.
Книги писали мошенники, которых он не стал бы кормить в кредит.
А тут еще по милости Пьетро пришлось платить за техническую школу три года кряду!
Когда он сидел, уставившись долгим взглядом на его ухо или хилый, впалый затылок, то после, в припадке бешенства, кусал губы или вдруг всаживал в столешницу нож и отодвигал тарелку.
Пьетро вел себя тихо и смирно, но не подчинялся. Дома он старался бывать поменьше, а прося деньги на учебу, подгадывал так, чтобы при этом был кто-нибудь из уважаемых клиентов, при которых Доменико не мог отказать. Он нашел свой способ сопротивления, хотя и переносил все безропотно. И школа была для него теперь в первую очередь предлогом держаться от трактира подальше.
Встречая в глазах отца насмешливую враждебность, он даже не пытался выпросить у него хоть немного любви.
Да и куда бы он от него делся? Стоило Пьетро посмотреть не так испуганно, как отец совал ему под нос кулак — хоть бочку поднимай. И если иной раз Пьетро улыбался, весь дрожа, и говорил: «Я тоже вырасту сильным, как ты!» — Доменико гремел так, как мог только он: «Кто — ты?!»
И Пьетро, склонив голову, тихонько отводил кулак — с восхищением и гадливостью.
В детстве от этого голоса ему становилось страшно и плохо — он не плакал, но забивался в угол, лишь бы от него отвязались. Теперь же ему было невыносимо горько. И точно зная, что мучения эти не заслужены, он все с большим жаром повторял, тирады о справедливости и возмездии, вычитанные в пропагандистских брошюрках, которые давал ему парикмахер.
Он вступил в социалистическую партию и даже основал кружок для молодежи — поначалу тайком, после — бравируя этим перед всяким, кто ни зайдет в трактир. Его мечтой в ту пору было писать статьи в «Классовую борьбу», выходившую еженедельно. Арестуй его полиция, он был бы только рад. Он грезил мученичеством, процессами, собраниями — вплоть до революции. За любого, кто обращался к нему «товарищ», он, не задумываясь, пошел бы в огонь и в воду. Доменико тем временем чем дальше, тем больше разрывался между трактиром и имением, и помочь ему было некому!
В удушливо жаркие часы, когда трактир пустел, повар с помощником дремали, положив голову на колоду для рубки мяса и накрывшись фартуками, чтобы не донимали мухи, слетавшиеся на жирные тряпки. Мухи сбивались в кучу вокруг невытертой капли бульона, мусолили куски мяса, ползая по ним вверх и вниз. Покипывал медный чан, кот под столом что-то грыз. Из плохо закрытого латунного крана под неумолкающий свист сочилась вода. Залитая в обе маслобойки вода бросала на стены прозрачные отсветы, которые время от времени пересекала мушиная тень.
Если заходил клиент, официант хватал верхнюю тарелку из стопки, потом окликал повара:
— Не спи.
Тогда собравшийся под рубашкой пот вдруг стекал холодной струйкой, повар потирал онемевшее, отлежанное ухо.
Весь трактир опять приходил в движение.
В эти досужие часы Пьетро брался за книгу и читал, не замечая времени. Вошедшему на цыпочках Доменико удавалось застать его врасплох.
— Ты почему не следишь, что делает прислуга?
И дальше шел очередной выговор.
Как-то раз он крикнул ему прямо в ухо:
— Иди вешать солому.
— Я?
— Ты.
И ухватив за шиворот, оторвал его от стула. Но тут же поспешил обратно к соломщикам. Пьетро остался сидеть, прислонясь головой к выступу стены, и сдерживался изо всех сил, чтобы не заплакать.
— Эй, хозяин, вон еще солому везут! — крикнул один из двух мужчин, только что разгрузивших первую партию.