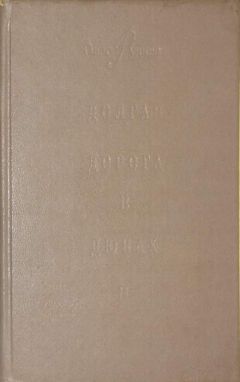Олег Руднев - Долгая дорога в дюнах
В этом же духе воспитывал он и Рихарда, единственного сына и наследника. Когда назрела пора дать ему фундаментальное образование — к тому времени Рихард уже учился на первом курсе Рижского университета, — решил, что это лучше всего будет сделать в Германии. Среди людей его круга преобладала пронемецкая ориентация. Собственно, к немцам у Карла Лосберга почтительное отношение было всегда. Деловиты, расчетливы, организованны… Еще бы силы побольше. Теперь все как будто склонялось именно к этому. Не случайно некоторые из его знакомых Озолиньшей вдруг преобразились в Озолингов, а Берзиньши стали именоваться Берзингами. Сам Карл Лосберг не спешил с ответом, когда его спрашивали, нет ли в нем немецкой крови. Загадочно улыбался, предоставляя думать о себе, что угодно. Мали ли как потом могло обернуться дело.
Итак, Рихарду было сказано: он поедет к дяде Генриху, продолжать учебу в Мюнхенском университете. Так уж случилось, что младший брат Карла Лосберга, сбежав от революции в девятнадцатом, навсегда поселился в Германии. С одной стороны, сказалось сильное нервное потрясение, которое пережил Генрих, — его чуть не убили на собственном заводе, с другой, вмешалась любовь, Генрих женился на немке, дочери состоятельного баварского пивовара. Не бескорыстно, конечно, но и не так, чтобы только на деньгах. Чувства были. Постепенно, с помощью жены, при участии старшего брата, Лосберг довольно быстро наладил собственное пивное производство, которое со временем стало приносить немалые дивиденды.
Братья резко разнились: Карл был немногословный, худой, аскетичный; Генрих — говорливый, кругленький, жизнерадостный. Но деловой хваткой, способностью учуять добычу и подобраться к ней они как бы дополняли друг друга. Тщательно анализировали обстановку, обменивались информацией, не упускали из поля зрения ни малейшего нюанса. Пришел фашизм и посулил выгоды. Братьев нисколько не смутило, что от него за версту несло кровью. Главное — не просчитаться, не упустить своего.
Рихард был принят в Мюнхене с распростертыми объятиями. И не столь дядей, сколько его супругой. Дородная, похожая на дюжего фельдфебеля, с редкими рыжими усиками и маленькими добрыми глазками на ярко-красном круглом лице, она всю свою любовь и нежность бездетной женщины выплеснула на племянника.
Германия и Мюнхен поразили молодого Лосберга, впервые выехавшего за пределы Латвии. Многое выглядело именно таким, каким рисовалось в его юношеском воображении. Он словно бы попал на другую планету, в иной мир, где было и радостно, и тревожно. Новые впечатления, новые друзья, студенческие пирушки, споры до утра… Данте, Кант, Гегель, Фейербах… Рихарда подавляла безграничность человеческого гения, блеск мысли и глубина разума. Ламброзо, Ницше… С этими было проще, с этими он разговаривал как бы на равных. Во всяком случае, здесь не было ничего заумного и непонятного. Неожиданно, откровенно, захватывающе и… все жизненно. Без фокусов и выкрутасов. Наследственность? Конечно. Добродетель так же, как и пороки, передаются от матери к дочери, от отца к сыну. У вора рождается вор, у проститутки проститутка. Рихард мог привести сколько угодно примеров из жизни. Неравенство среди людей? Чистота расы? Господи, даже у животных существует своя извечная и непреложная иерархия. Стадом повелевает вожак, выживает и побеждает сильный. Естественный отбор. За миллиарды лет сама природа выработала и утвердила свои законы. Они имеют отношение ко всему живому на земле, в том числе и к человеку, который постоянно борется за свое существование.
Но если богу было угодно благословить именно такой порядок бытия в подлунном мире, то почему бы не попробовать направить развитие естественных и крайне важных законов природы по более разумному и организованному пути? Не приспела ли пора подумать о породе самого человека? Потрясенный, Рихард не утерпел, обратился к одному из своих новых приятелей, Манфреду Зингруберу.
— Но это же нереально.
— Почему? — снисходительно усмехнулся тот. — Любая операция кажется нереальной до тех пор, пока нет достойного хирурга. Ничего сложного. Так же, как выводят скот. Селекция и селекция. Какая-нибудь сотня лет — и на земле будут жить люди, достойные этого звания, а не двуногие млекопитающие.
Рихард учился не то чтобы очень прилежно, но вполне сносно, хотя особого рвения не проявлял. Германия бурлила. Национал-социализм принес с собой не только новую мораль, но и новую философию — более увлекательную, динамичную и более заманчивую для некоторой части молодого поколения немцев. Они пьянели от сознания своего расового, национального превосходства. Сидеть в аудитории и корпеть над избитыми книжными истинами в то время, когда рядом, за стенами, вершилась новая история человечества, было, по крайней мере, глупо. Вместе со студентами, из которых Рихард больше всего сдружился с Манфредом Зингрубером — стройным голубоглазым красавцем, сыном известного фабриканта, — он участвовал в манифестациях, маршировал по улицам, кидал в костры книги Гейне и Маркса, зачитывался Ницше и Адольфом Гитлером. Лосберг был бы вполне счастлив, если бы не одно щекотливое обстоятельство. Как только кому-то из его новых знакомых становилось известно, что он не немец, что-то сразу же менялось в их отношениях. Рихард, пожалуй, и не сказал бы сразу, что именно. С ним по-прежнему были вежливы и предупредительны, его не обделяли ни куском, ни бокалом на студенческих пирушках, но его как-то очень деликатно сторонились, когда речь заходила о политических акциях. Ему словно бы давали понять, что существует грань, за которую переходить не рекомендуется.
Рихард не подавал виду, что чувствует себя чужаком, бодрился, но обида от этого не проходила. Отныне он, беседуя с товарищами, пристально вглядывался в их глаза, настороженно прислушивался к каждому слову, отыскивал во всем второй, скрытый от него смысл. И часто находил этот смысл там, где его вовсе не было. Страдал еще и оттого, что, действительно, ощущал себя неполноценным. Как ни старался изображать из себя молодца не хуже Зингрубера, многое у него не получалось. Во-первых, не было той убежденной озлобленности, которая все больше отличала его некоторых приятелей, во-вторых, ему было попросту страшно.
Однажды — это случилось в тридцать третьем, то есть сразу же после его приезда в Германию — они с Манфредом надумали избить одного парня. Вернее, решил Манфред, а Рихард постеснялся отказаться. За что избить? А так. За то, что он — еврей — добровольно не уходит из университета. К ним присоединилась целая компания — в желающих поучаствовать в развлечении недостатка не было. Тогда Рихард впервые увидел, что значит стая хищников, обезумевших от крови. Били тяжело, методично, со смаком. Рихард тоже ударил. Раз или два. Его поразило, что избиваемый не кричал, даже не стонал. Он шарил по земле руками, пытаясь отыскать очки. Это только подхлестывало компанию.
Потом пьянствовали в пивной, поздравляли друг друга с крещением и первой победой. Рихард пил вместе со всеми, чувствуя, как тошнота подступает к горлу, как липнут ладони, как колотится сердце. Перед глазами неотступно стояло лицо парня. Дома его вывернуло наизнанку, и так продолжалось до утра. Тетка ухаживала за племянником, журила баловника, не подозревая об истинной причине его недуга. Потом были еще драки, еще кровь и бессмысленная жестокость, и каждый раз он переживал это не менее мучительно. А когда понял, что Манфред догадывается о его состоянии, то и вовсе почувствовал себя безобидным пуделем, затесавшимся в свору гончих псов.
Международное положение усложнялось. Гитлер и его компания перешли от слов к делу: земля Европы обагрилась кровью, в воздухе запахло порохом и гарью. Многие из бывших знакомых Рихарда добровольно надевали военные мундиры. Немцы преображались на глазах. Даже милая, сентиментальная тетушка, и та постоянно ходила на какие-то собрания, приносила оттуда новые мысли, незнакомые слова, строго покрикивала на прислугу — при этом зло надувала губы и топорщила усы. Всем своим видом тетка как бы подчеркивала, что она немка и судьба Германии ей не безразлична. Дядя Генрих уныло наблюдал за этой переменой, но не вмешивался, не делал жене замечаний. Все ходили словно в тумане, настороженно и опасливо наблюдая друг за другом. Во всем надо было соблюдать крайнюю осторожность: с инакомыслящими не деликатничали. Тем более с иностранцами.
Вокруг Рихарда все ощутимей образовывалась пустота. Он невольно напоминал себе человека, некстати пожаловавшего в гости: только отнимает время да морочит хозяевам голову. Единственный, кто не изменил к нему своего доброго расположения, был Манфред. Лосберг не мог упрекнуть друга в неискренности. Но даже тот вынужден был в конце концов покинуть приезжего друга-латыша. Зингрубер тоже надел военную форму. Случилось это на четвертом курсе. Манфред был отчислен из университета. Вернее, он сам себя исключил из списка студентов, уже больше года вообще не появляясь в аудиториях. Лосберг понял, что настала пора убираться восвояси.