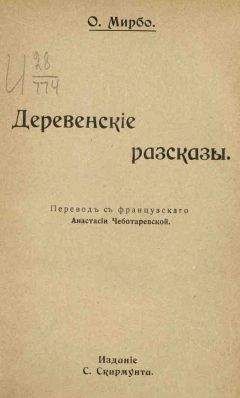Октав Мирбо - Дневник горничной
Но мне надо вкратце хоть рассказать о тех событиях, которые предшествовали нашему отъезду из Приерэ.
Выше я писала уже, что Жозеф спал в людской над седельным чуланом. Каждый день зимою и летом он вставал в пять часов утра. В одно такое утро, а именно двадцать четвертого декабря, он увидел, что дверь кухни была настежь открыта.
— Как… — сказал он себе, — неужели они уже там встали?
В то же время он увидел, что в стеклянной двери возле замка вырезан алмазом квадратный кусок стекла такой величины, чтобы в отверстие могла войти рука. Сам замок был взломан искусной и опытной рукой. Несколько мелких кусочков дерева, маленькие кусочки изогнутого железа, осколки стекла валялись на каменных плитках. Внутри дома все двери, так тщательно закрываемые на засов каждый вечер под наблюдением самой хозяйки, были раскрыты. Чувствовалось, что что-то страшное произошло там, дальше, за этими дверьми… Сильно взволнованный — я описываю со слов самого Жозефа, дававшего показания об этом событии судьям, — Жозеф прошел через кухню и вышел в коридор, где направо были расположены фруктовый сарай, ванная комната и передняя, а налево — кухня, столовая, маленький салон и в глубине — большой салон. Столовая представляла собой картину ужасного беспорядка, настоящего разгрома — мебель опрокинута, буфет перерыт сверху донизу; ящики буфета, так же как и ящики двух шкатулок, опрокинуты на ковер, а на столе, между пустыми коробками и посреди кучи разных ненужных мелочей, не имеющих никакой ценности — стояла и догорала свеча в медном подсвечнике. Но только буфетная завершала полноту картины. В буфетной — мне кажется, я об этом уже писала — был вделан в стене очень глубокий шкаф, который запирался маленьким замком, а его секрет был известен только самой хозяйке. Там покоилось знаменитое серебро в трех тяжелых сундуках, обитых поперек, посредине и в углах железными полосами. Сундуки снизу были привинчены к доске, а на стене они держались прибитые крепкими железными крюками. И вот все три ящика, оторванные от стены, стояли, открытые и пустые посреди комнаты. При виде этого Жозеф поднял тревогу. Со всей силы своих легких он крикнул на лестницу:
— Барыня!., барин!.. Идите скорее… Обокрали! обокрали!..
Это произвело такое впечатление, как будто бы громадная глыба снега внезапно скатилась и упала на наш дом. Барыня в одной рубашке, с голыми плечами, едва прикрытыми легким платком, барин, застегивая на ходу свои брюки, из которых вылезали концы рубашки… И оба, растрепанные, очень бледные, с искаженными лицами, как будто бы они только что очнулись от какого-нибудь тяжелого кошмара, кричали:
Что такое случилось?.. Что такое случилось?..
Обокрали!.. Обокрали!..
Что такое обокрали?.. Что?..
В столовой барыня застонала: «Боже мой! Боже мой!..» — в то время, как барин с искривленным ртом продолжал кричать:
— Что украли, что, что?
В буфетной, сопровождаемая Жозефом, барыня при виде трех оторванных сундуков испустила ужасный крик:
— Мое серебро!.. Боже мой!.. Возможно ли?.. Мое серебро!..
И подняв и перевернув все перегородки, все отделения, в которых ничего не было, она в отчаянии опустилась на паркет. Еле слышным голосом, голосом ребенка, она прошептала:
— Они взяли все… они взяли все… все… все… и судок стиля Людовика XVI.
В то время, как барыня смотрела на пустые сундуки, как мать смотрит на своего мертвого ребенка, барин, почесывая затылок и свирепо вращая глазами, каким-то отчужденным, безумным плачущим голосом упорно повторял одни и те же слова:
— Черт возьми!.. А, черт возьми!.. Собаки!.. А, черт, черт возьми!..
А Жозеф с искаженным лицом, тоже причитал:
— Судок в стиле Людовика XVI… Судок в стиле Людовика… А! разбойники!..
Потом наступила минута трагического молчания, упадок сил; то молчание смерти, та реакция, которая следует за шумом и громом больших несчастий и разрушений… И фонарь, который качался в руках у Жозефа, бросал на все это, на эти мертвые лица и опустошенные сундуки красный, дрожащий, зловещий, свет…
Я сошла вниз в ту же минуту, как и хозяева, как только закричал Жозеф. При виде этого несчастья моим первым чувством было, несмотря на комизм собравшихся лиц, сострадание. Мне показалось, что я также член семьи и должна разделить ее печали и испытания. Мне хотелось сказать несколько утешительных слов барыне, убитое лицо которой внушало мне сожаление… Но это чувство общности интересов или вернее рабства — быстро исчезло во мне.
Преступление имеет в себе что-то сильное, торжественное, карающее, религиозное, которое меня, конечно, ужасает, но вместе с тем вызывает во мне — я не знаю, как объяснить это — удивление и восхищение… Нет, не восхищение, потому что восхищение есть нравственное чувство, духовный восторг, а то, что я чувствую, действует и возбуждает только мое тело… Это — сильное потрясение всего моего физического существа, тягостное и вместе с тем пленительное.
Люббпытно, странно, без сомнения, может быть, ужасно — и я не могу себе объяснить истинной причины этих странных и сильных ощущений во мне — но для меня всякое преступление, особенно убийство, имеет какую-то тайную связь с любовью… да, я положительно скажу!.. красивое преступление захватывает меня так же, как красивый мужчина…
Я должна сказать, что одна мысль, пришедшая мне в голову, превратила вдруг в мальчишескую радость, в бурное веселье это ужасное и могущественное наслаждение преступлением, сменившее во мне непосредственно чувство сострадания, которое было вначале, так некстати, овладело моим сердцем… Я подумала:
— Вот два существа, которые живут, как кроты, как червяки. Они сидят, запершись, как добровольные узники, за негостеприимными стенами этой тюрьмы. Они вычеркивают, уничтожают, как что-то лишнее, ненужное все, что составляет радость жизни, улыбку и веселье в доме. Они оберегают себя, как от какой-нибудь грязи, от всего того, что могло бы хоть немножко извинить их богатство, их бесполезность для человечества. С их обильного стола не падает ни одна крошка, чтобы утолить голод бедняка, их сухие сердца не знают жалости к горю страдающего… Они скупятся даже для своего собственного счастья… И я буду их жалеть? О, нет! То, что случилось с ними, только справедливо. Отняв у них часть их богатств, освободив на волю эти похороненные сокровища, добрые воры только восстановили равновесие… Я жалею лишь о том, что они не оставили их совсем нагими, нищими, более нищими, чем бродяга, который столько раз напрасно стучался у их двери, более больными, чем тот несчастный, который умирает на дороге, в двух шагах от этих спрятанных и проклятых богатств.