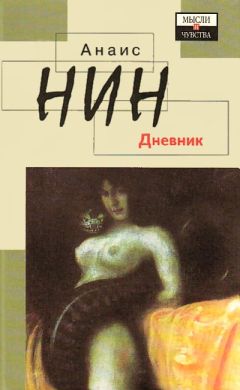Анаис Нин - Дневник 1931-1934 гг. Рассказы
Мучительно было видеть спасовавшую перед жизнью Джун, ее жалкие попытки разобраться в этом, привести в порядок свои чувства, понять. Говорила она, как в горячке. Рассказывала: «Однажды вечером я пришла к Генри, чтобы исповедаться ему, словно к духовнику пришла. Я была исполнена благоговения. Смотрела на него, как на святого. Но он отнесся к этому так, что я на полуслове замолчала. С того момента — все! Пусть его хоть на носилках полумертвого принесут, я и пальцем не двину. Большего оскорбления он мне не мог нанести».
Мы продолжаем прогулку, и Джун постепенно оживает, она меньше погружена в свое страдание. «Ты знаешь, Анаис, я чувствую такую гармонию, когда ты рядом», — произносит она, в точности повторяя слова, сказанные мне Генри. Может быть, я всего лишь медиум, призванный переносить от одного к другому ясность и ту гармонию, которую прочие находят сами своим «я», своим видением? А Джун добавляет: «Это не я изворотливая, а Генри. Он толкует о моей изворотливости, а сам жуткий проныра».
Так я увидела, какими разрушительными последствиями обернулись литературные изыски Генри для бедного, шаткого разума Джун. Все, что он написал, сказал, преуменьшив или преувеличив, запутало ее, разложило ее личность, веру в себя. Встав перед горою написанного Генри, она сама не знала, кто же она: проститутка ли, богиня, преступница, святая.
Генри окончательно зарылся в свою работу; у него нет времени для Джун. Я отступила к своему писательству. Генри звонит мне. Присылает по почте кучу написанного, и я пытаюсь вдуматься в его идеи, но какую же гигантскую вольтову дугу он сооружает! Лоуренс, Джойс, Эли Фор, Достоевский, критицизм, нудизм, его убеждения, его позиция, Майкл Фрэнкель, Кейзерлинг. Он утверждается как мыслитель; он предъявляет доказательства своей серьезности. Ему надоело считаться всего-навсего «пиздохудожником», экспериментатором, революционером. Фред говорит ему, что его произведения могли бы стать значимыми, если бы не куча непристойных эпизодов.
С грустью смотрю я на фотографию доктора Альенди. Я все время нахожусь между двумя мирами, в постоянном конфликте. А мне хочется временами отдохнуть, попользоваться покоем, выбрать какой-нибудь укромный уголок, сделать окончательный выбор. Какой-то безымянный страх и тревога, которую нельзя описать, заставляют меня быть все время в движении. В такие вечера, как этот, я хотела бы ощущать себя цельным организмом. Ведь только часть меня сейчас сидит у огня, только мои руки живут, шьют что-то. Я все думаю о несчастной Джун и все отчетливей сознаю, что от нее Генри больше вреда, чем пользы.
Бар. Джун веселехонька, потешается над Генри, над его непонятными переменами настроений, над его бездеятельностью, над его esprit d'escalier[41] как писателя. «Он уже, ты знаешь, Анаис, мертвый. И эмоционально и сексуально умер». С каким же удовольствием они оба объявляют другого мертвецом! Мне приходится все время стараться заинтересовать Джун чем-то другим, отвлечь ее мысли от наркотиков. Я рассказываю ей всю свою жизнь, а она мне — свою. Что за истории! А она приходит в изумление, узнав, что в Южной Франции я жила совсем рядом с домом Лоуренса и так и не осмелилась попытаться встретиться с ним. «Но кто я такая? И с чем бы я к нему пришла?» — спросила я у Джун и рассказала ей, как однажды в доме Рене Лалу мимо меня прошествовал Андре Жид в своем длинном черном плаще. А Джун поведала мне об Осипе Цадкине и его диковинных работах и о том, как он добивался ее и как дал ей одну свою скульптуру, чтобы она продала ее в Америке.
Как на жарких углях, мы танцуем на нашей иронии. А потом Джун произносит, посерьезнев:
— Как ты мне нравишься в этом простеньком дождевике и в фетровой шляпке. — И целует меня в шею прямо перед окнами дома Альенди. И взгляд ее, как всегда при расставании, похож на взгляд утопающей.
И она говорит:
— Я сейчас отыскиваю кого-нибудь, перед кем буду преклоняться; преклоняться перед Генри я теперь никак не могу.
А я, преклоняюсь ли я перед Альенди? Или это дочернее уважение?
— Но я не хочу отказываться от своего безумия. Пробую объяснить Джун, как я понимаю писательство. Писатель — дуэлянт, не являющийся в условленный час; он подбирает оскорбление, словно некую любопытную вещь, находку для коллекционера; потом он рассматривает это на своем столе и лишь тогда выходит на дуэль со своим оружием — словом. Многие считают это слабостью. Я называю это обдумыванием. То, что для мужчины слабость, для писателя — достоинство. Он хранит, накапливает то, что взорвет позже в своем произведении. Вот почему писатель — самый одинокий человек в мире; ведь он живет, сражается, умирает и вновь рождается всегда в одиночестве; все свои роли он играет за опущенным занавесом. А в жизни он фигура несообразная. Чтобы судить писателя, надо любить его писание той же любовью, какой любишь его как мужчину. А большинство женщин любят только мужчину.
Излагая все это, я понимала, что Джун перескажет услышанное от меня Генри (и не сомневалась, что выдаст неподписанное произведение искусства за свое).
Над идеями, высказанными не будем задумываться и завтра. Виноват джаз. Всякий раз, когда я вхожу в бар или кабаре, еще до того, как вручить пальто гардеробщику, я так глубоко затягиваюсь ароматом всех этих ощущений — красотой женщин, магнетизмом, исходящим от мужчин, звездным светом ламп, — что уже готова, как заправский пьяница, сползти куда-нибудь под столик. Как быстро скольжу я по снежному склону звуков, тону в затуманенных глазах, растворяюсь в музыке!
Джун и я, мы обе охвачены жаждой тепла и любви. Подарки, комплименты, тихие слова, восхищение, фимиам, цветы, духи.
Входим в танцевальный зал. Неожиданная изысканность и церемонность. Вечерние туалеты, шампанское в ведерках, белые смокинги официантов, мягкий камерный джаз. Может быть, стоит уйти отсюда? Но в глазах Джун я читаю — плевать! Она хочет бросить вызов этому обществу, дать пощечину всему миру, раз уж Генри зарылся в свою книгу и наплевал на нас.
Забыв о ледяной корректности места, мы болтаем, склонившись друг к другу. Джун — лучащаяся, яркая, предвещающая. Любому и каждому, кто понимает, под пару. Хочется знать, есть ли у нее в Нью-Йорке любовник.
Мы нужны друг другу. Мы порой сами не можем понять, кто из нас дитя, а кто мать, кто старшая сестра или мудрая опытная подруга; кто кому покровительствует, кто главенствует в нашем союзе. Эта с ума сводящая неопределенность охотно нами сохраняется, и мы не знаем, чего хотим одна от другой. Сегодня Джун говорит: «Хочу с тобой танцевать». И Джун ведет меня в танце, она крупная, высокая, а я маленькая и легкая. Мы скользим под последние умирающие вздохи джазовой пьески. Мужчины в жестких, более жестких, чем спинки их стульев, воротничках. Дамы туго сжимают губы. Музыканты улыбаются с коварной кротостью, радуясь спектаклю — пощечине их великолепным гостям. А те ничего не могут поделать, уж слишком хорошо смотримся мы вместе: Джун, нахмуренная, закрытая полями шляпы под Грету Гарбо, укутанная в пелерину, с трагически бледным лицом, и я — полный контраст ей каждой своей черточкой. Мужчины чувствуют себя оскорбленными. Официант дожидается у столика, чтобы сказать нам, что больше мы танцевать не будем. Тогда я требую счет тоном владетельной сеньоры, и мы уходим. На моих губах пряный вкус мятежа. Мы отправляемся в кабаре «Фетиш». Вот там мужчины и женщины ничего на себя не напускают, там не стесняются. Здесь мы не парии. Мужчины наперебой стараются обратить на себя внимание Джун, и она откликается взглядом и легкой улыбкой. Я корчусь от ревности. А Джун рассказывает. Все ее истории Генри уже мне рассказал, но теперь они подаются обратной стороной. Они не сходятся ни в одной точке. Каждая сцена реконструируется. Это Генри сделал Джун вульгарной и ожесточил ее. На самом деле она чувствительная и тонкая женщина. Это Генри изменял ей постоянно и даже предавался любви с другими у нее на глазах. Это Генри, посчитав, что она должна быть роковой женщиной, толкал ее на наихудшие поступки. Это Генри научил ее языку подворотен. «Ему же не нужна человеческая жизнь, Анаис, не нужно человеческое счастье. Уж я-то знаю. Ему нужны фокусы и трюки, сумасбродства, штучки-дрючки, горячка, волнения. Мне пришлось делать все, что он должен был бы делать, если б духу хватило. Он ведь у нас смирненький, квелый. Я хотела подарить ему характеры Достоевского. Но он не Достоевский, он их не разглядел. В нем нет ничего от человеческого существа; он — хамелеон. Он меня ненавидит потому, что всем мне обязан; он испоганил все, что я ему дала. Ему и чувства реальности не хватает, и фантазии».