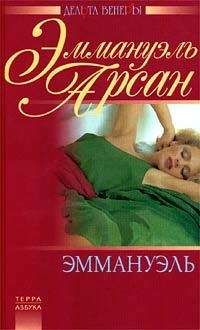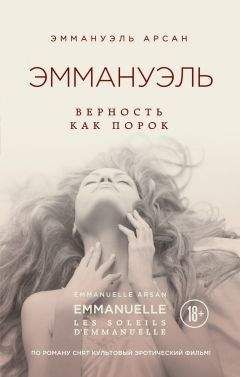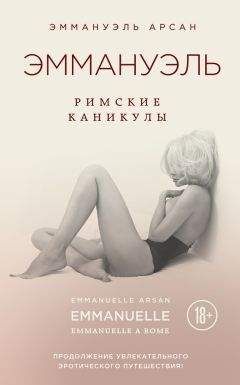Октав Мирбо - Дневник горничной
— Я никогда удачно не охочусь, Селестина… — ответил он, качая головой… — Это чтобы уходить… гулять… не быть здесь, где мне скучно…
— Ах! Барин здесь скучают?..
Помолчав, он начал галантно поправляться:
— Т.е. я скучал… Потому что теперь… Наконец… вот!
Потом, с глупой умоляющей улыбкой:
— Селестина?..
— Сударь!
— Хотите дать мне туфли? Извините за эту просьбу…
— Но, сударь, это — моя обязанность…
— Да… наконец… Они под лестницей в маленьком чулане налево…
Надо полагать, что с этим типом можно сделать все, что угодно… Он без всякой хитрости, сразу дается в руки… Да! Можно с ним далеко зайти…
Обед неважный, из остатков вчерашнего, прошел без инцидентов, почти ври общем молчании… Барин ест с жадностью, а барыня ковыряется в кушаньях с скучающим видом и презрительными минами… Она, кажется, питается пилюлями, сиропами, каплями разного рода, так что за каждой едой перед ее тарелкой выстраивается целая аптека… Между собою говорили мало и к тому же о местных делах, которые меня мало интересуют… Я могла только понять, что у них мало кто бывает… Впрочем, было видно еще, что мысли их далеко от разговора… Наблюдали за мной каждый с особым любопытством, сообразно своему ходу мыслей: барыня сухо и жестко, даже пренебрежительно, обдумывая в уме все пакости, которые она надо мной проделает: барин лукаво, многозначительно щуря глаза и бросая странные взгляды на мои руки и стараясь это скрыть… В сущности я не понимаю, отчего на мужчин так действуют мои руки?.. Я делала вид, что ничего не понимаю… Входила, выходила, с достоинством, сдержанная, ловкая и… далекая в мыслях…
Ах! Если-б они могли заглянуть в мою душу, если-б они могли посмотреть, что там делается, так же как я вижу и читаю внутри их!..
Я обожаю подавать на стол. Здесь застаешь своих хозяев во всей неприбранности их внутренней жизни. Вначале они держатся осторожно наблюдают друг за другом, но постепенно раскрываются, показываются, каковы они без румян и вуалей, забывая, что вокруг них кто-то ходит, слушает, замечает их недостатки, их нравственные уродства, их тайные язвы, — все, что порядочные люди считают непристойным и позорным. Собрать все эти доказательства, разнести их по клеткам, приклеить к ним ярлычки, в ожидании, пока представится случай сделать из них ужасное оружие, в день страшного расчета, — это самое веселое в нашей профессии и самая драгоценная месть за все наши унижения.
Служба не из веселых. Кроме меня — еще две прислуги, кухарка, которая постоянно хмурится, и садовник — кучер, который никогда не говорит ни слова. Кухарку зовут Марианна, садовника — Жозеф… Настоящая деревня… И при этом — дубье!.. Она, толстая обрюзглая женщина; вокруг шеи обматывает грязную косынку, похожую на тряпку, которой вытирает кастрюли; носит синюю бумазейную кофту, всю в сальных пятнах, еле прикрывающую громадную безобразную грудь: из-под короткой юбки видны толстые ноги в серых шерстяных чулках. Он, — в рубашке, фартуке и деревянных башмаках, сухой, бритый, нервный, с огромным до ушей ртом, крадущейся походкой, угрюмыми движениями пономаря… Таковы оба мои компаньона…
Прислуге не полагается отдельной столовой; мы обедаем в кухне, за тем: самым столом, где днем кухарка стряпает, режет мясо, потрошит рыбу, чистит овощи своими толстыми круглыми пальцами, похожими на кровяные сосиски… Ну, могу сказать!.. Это даже не совсем прилично… Благодаря плите, атмосфера в комнате удушающая… Носится запах перегорелого жира, прогорклого соуса, затверделого сала… В то время, как мы едим, в печи кипит собачья похлебка, распространяющая страшную вонь, от которой подымается кашель… Прямо тошнит!.. В тюрьмах больше заботятся о заключенных и собаке лучше в ее конуре…
Нам подали капусту с салом и вонючий сыр… Для питья кислый сидр… Больше ничего. Глиняные тарелки с потрескавшейся эмалью, пропахшие жиром, и жестяные вилки дополняли этот миленький сервиз.
Будучи в доме «новенькой», я не захотела жаловаться. Но и есть тоже, тем более… Чтобы еще окончательно расстроить себе желудок, благодарю!
— Почему вы не едите? — спросила кухарка.
— Не хочется есть…
Я произнесла это совершенно спокойно… Марианна начала ворчать…
— Барышне, может, нужно подать трюфли?
Я отвечала без раздражения, но уколотая в своем самолюбии:
— Если вам хочется знать, я ела трюфли не раз… Пожалуй, не все здесь могут сказать то же…
После этих слов она прикусила язычок.
Во время этого разговора садовник-кучер набивал себе рот огромными кусками сала, и искоса на меня поглядывал. Не знаю, почему взгляд этого человека меня смущает… И молчание беспокоит… Он не очень молод, но движения его удивительно гибки: изгибы бедер у него напоминают движения змеи… Опишу его подробно… У него густые седоватые волосы, низкий лоб, косые глаза, выдающиеся скулы, широкая, крепкая челюсть, и длинный мясистый подбородок, все это придает ему странный вид, разгадать который я не в состоянии… что он? простофиля?.. или хитрец? ничего не могу сказать. Все же любопытно, что этот человек так меня занимает… В конце концов этот навязчивый вопрос постепенно стушевывается и исчезает. И я отлично понимаю, что все это дело моего романтического и преувеличенного воображения, вследствие которого люди и вещи представляются мне всегда или в слишком хорошем или в слишком дурном свете; потому-то мне и хочется, во что бы то ни стало, превратить этого несчастного Жозефа в нечто большее того тупоголового мужика, чем он есть на самом деле.
К концу обеда Жозеф, все время не произносивший ни слова, достал из кармана своего передника газету «Libre Parole» которую он принялся внимательно читать, а Марианна, выпившая два графинчика сидра, размякла и сделалась более любезной. Развалясь на стуле, с засученными рукавами и голыми руками, со сбившимся на бок чепчиком, она задавала мне ряд вопросов: откуда я родом, где жила, попадались ли хорошие места, мое отношение к евреям?.. И мы болтали несколько минут, почти дружелюбно… В свою очередь я потребовала от нее сведения о доме, — бывает ли народ, и какой, дарит ли барин горничных своим вниманием, есть ли у барыни любовники?..
Ах! нужно было видеть ее лицо и лицо Жозефа, которого мои вопросы ежеминутно отрывали от чтении… как они были забавны в своем смущении!.. Трудно представить себе, как они там в провинции отстали… Ничего не знают, ничего не понимают, ничего не видят, приходят в смущение от самых простых вещей.
— Сейчас видно, что вы недавно из Парижа, — слегка уколола меня кухарка.
На что Жозеф, качнув головой, внезапно заметил: