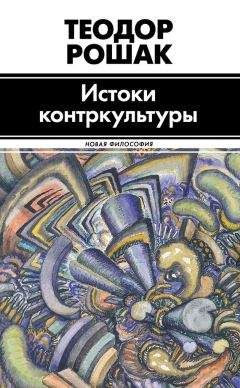Теодор Рошак - Воспоминания Элизабет Франкенштейн
Чувствуя мое смятение, она во время сеансов зажигает особое благовоние. У него резкий травяной аромат; скоро от благоухания голова у меня становится легкой, а потом всякое напряжение, вызываемое позированием, улетучивается бесследно. Я теряю ощущение времени. Матушка говорит, что листья, которые она жжет, из Перу и их действие обнаружили верховные жрецы инков. Она получила их от Серафины; повитухи используют их при трудных родах.
Матушка показывает мне каждый набросок; на них я не похожа на себя. Лицо смутно, как облако; но тело выписано очень тщательно, не упущена ни малейшая деталь, ни малейшая тень — как и малейший недостаток: крохотные темные родинки на плече, с которыми я родилась, почти исчезнувший шрам на виске, даже едва заметные светлые волоски вокруг сосков и завитки под мышками. Часто она просит меня принять нескромные позы: бедра широко раздвинуты, так что она может изобразить каждый волосок и складочку внутренней плоти. Ее рисунки крайне подробны, хотя она часто пускает ленту цветов и завитушек по моим груди и лону. Она спрашивает, что я думаю о ее рисунках. С легким недовольством в голосе отвечаю:
— На мой взгляд, чересчур уж они откровенны.
— Как так?
— Я бы не хотела, чтобы их увидел кто-то посторонний, знающий, что я послужила моделью. Слишком многое они обнажают.
— Наверно, ты имеешь в виду волоски, — смеется мать.
— Да.
— Ты обладаешь телом юной женщины, прекрасным во всей его естественности, и внутренней красотой, которая бьет из тебя, как свежий родник, и пребудет с тобой всю твою жизнь. На твой взгляд повлияло то, как мужчины изображали нас на своих картинах. Они восхищались живыми женщинами, позировавшими для них, но так часто предпочитали изображать наше тело ангельски-детским: бледным и безволосым, с крохотной, правильно округлой грудью, словно высеченной из мрамора. Если не считать того, что еще изображали нас в виде, так сказать, вакханок. О, как они очарованы вакханками! Женщинами, одержимыми страстью, которые, конечно, жили в очень давние времена и которых больше не найти. Мужчины не могут решить, какими желают нас видеть: сладострастными или непорочными. Судя по их произведениям, месье Давид и Фрагонар вряд ли вообще нуждались в обнаженной натуре; больше того, они изображали лишь свои фантазии. Разумеется, мы знаем, почему это были дамы, не так ли?
— Я никогда бы не смогла заставить себя позировать мужчине: целыми часами лежать перед ним обнаженной! Не знаю, что бы я чувствовала больше, стыд или скуку.
— Ты очень наивна, если считаешь, что чувствовала бы только это. В Древней Греции для большинства красивейших замужних женщин не было ничего почетней, как позировать обнаженной великому Праксителю. «Скульптура, — заявлял художник, — учит женщину подлинной скромности». И почему бы ему не утверждать подобное? Он уверял, что ничто так не свидетельствует о добродетельности афинских женщин, как то, что каждая из позировавших ему для статуи Афродиты вернулась к мужу такой же чистой, какой пришла. Разумеется, приходится верить художнику на слово. Подозреваю, что его модели уходили от него, не чувствуя ни малейшего стыда и уж тем более не испытав ни мгновения скуки.
Эти наброски матушка делала для большого полотна, над которым работала много месяцев: странной картины, которая приводит меня в замешательство, когда я гляжу на нее. Матушка говорит, что это самое амбициозное произведение, за которое она взялась, и сомневается, что когда-нибудь сможет его закончить. Она сделала для него несчетное количество набросков и этюдов как с Серафины, так и с меня — старой женщины и молодой, сведенных вместе на картине. Я изображена сидящей на колене матушки, которая, в свою очередь, сидит на колене Серафины. Все мы обнажены, а за спиной Серафины, поддерживая ее, тянется ряд нагих женщин, каждая сидит на колене у другой. Их лица смутны. Ряд, извиваясь, уходит в глубь картины, теряясь из виду, но рука каждой лежит на груди той, что впереди. В небе луна, одновременно во всех своих стадиях. Мы трое — Серафина, матушка и я — странно обнимаем друг друга. Рука Серафины лежит на груди матери, а рука матери касается моей груди. Серафина смотрит на матушку нечеловечески напряженным, я бы даже сказала, хищным взглядом. Взгляд матушки мягче и устремлен на меня; я же смотрю на свою раскрытую ладонь, которую держу возле соска. Но ладонь пуста. Я спрашиваю, что должно быть в ней, ибо пустая ладонь так и притягивает глаз.
— Еще увидишь, дорогая, — отвечает мать, — Тебя ждет сюрприз.
Я прошу матушку побольше рассказать о Серафине.
— Она разговаривала со мной по-цыгански. Она тоже цыганка, как Розина и Тома?
Мой вопрос вызывает у матушки улыбку.
— Серафина жила среди цыган, как жила среди многих других народов. Если я скажу, что она из племени тамилов, тебе, думаю, это ни о чем не скажет, как и мне. Барону — может быть, благодаря его путешествиям в дальние страны. Родина Серафины дальше, чем даже Великая Порта.
— Это там она приобщилась к великой мудрости?
— Там и во множестве иных мест. Серафина — часть чего-то очень древнего. Существует непрерывно развивающаяся цепь мысли; она уходит в глубину времен, как эта цепочка посвященных женщин на моей картине, В исторических хрониках, написанных мужчинами, об этом ничего не найти, но тем не менее она существует. — Матушка закрывает глаза, словно мысленным взором устремляясь назад, в даль времен, — Цепь эта тонка, как паутина, но прочна, как бронза; она связывает учителя с ученицей через века. Звенья этой цепи — знания, которые не могут быть записаны, но передаются лишь устно. В химической философии женщины были среди наиболее уважаемых учителей; считалось, что они сообщают науке особое свойство. В древние времена в великом городе Александрия жила посвященная по имени Клеопатра. Не царица, а женщина, столь же знаменитая в ее эпоху, поскольку числилась среди великих адептов. Серафина с особым тщанием изучала ее деятельность и в один прекрасный день будет причислена к подобным женщинам.
Я пожаловалась, что не всегда понимаю то, чему учит меня Серафина.
— У нее тонкий ум. Будь внимательней, и не только к тому, что она говорит. Серафина учит не только посредством слов. Как ты увидишь, у нее есть для этого и другие средства. — Она замолчала, изучая выражение моего лица, — Что-нибудь еще? — спросила она, уловив в моем голосе нотку беспокойства. Да, признаюсь… кое о чем мне говорить не хотелось, — Ну же! У нас больше нет секретов друг от друга.
— Когда мы совершаем обряды… я остаюсь неудовлетворенной.
— Как так?
— Мы с Виктором никогда не касаемся друг друга, кроме как по указанию Серафины. Так всегда будет?