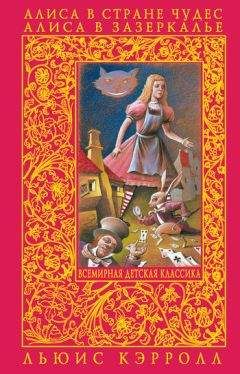Жестокая болезнь (ЛП) - Вольф Триша
— Интересно, — выражение ее лица нейтральное, не показывает намеков, что имя ее мучителя ее нервирует.
В своем электронном письме к ней я указала, что одна из жертв Грейсона была связана с Алексом, но не использовала никаких подробных описаний или имен. Я и сейчас не решаюсь выдавать слишком много, но с ней мы можем обменяться только равноправной информацией.
— Я знаю, что ты заставила меня лететь через всю страну не для того, чтобы я пересказала все то, что уже изложила в письме, — я сажусь напротив нее и имитирую язык ее тела. — Мне нужно найти человека, который сделал это со мной. И мне нужно знать, что им движет, — я подавляю мрачную улыбку от своего каламбура, ведь именно это Алекс пытался сделать со мной.
Она потирает тыльную сторону ладони, пристально глядя на меня. Нервирует, то, как она выдерживает мой взгляд. Большинство людей устанавливают зрительный контакт, а затем отворачиваются. Невежливо смотреть человеку в глаза слишком долго. Это одна из первых вещей, которым я научилась сама, чтобы не заставлять других чувствовать себя некомфортно.
Теперь я понимаю, каково это, когда на тебя смотрят бездушным взглядом.
— И ты веришь, что я могу как-то помочь тебе найти этого человека, — заявляет она.
— Я знаю, что ты можешь.
— Я не знаю, как.
— Сестра Алекса, — говорю я, напрягаясь, чтобы выдержать ее пристальный взгляд. — Ты изучала Салливана. Ты была близка с ним. Ты знаешь о его жертвах. Значит, у тебя есть информация, неизвестная общественности о докторе Мэри Дженкинс, — я поднимаю подбородок выше. — Мне нужна эта информация.
Впервые с тех пор, как Лондон вошла в комнату, маска сползает, и черты лица выдают ее. Расширенные глаза, слегка приоткрытый рот. Эта информация влияет на нее. Возможно, потому, что Мэри была врачом, своего рода коллегой по профессии. Возможно, из-за ужасного способа, которым была убита Мэри. Стала жертвой своей собственной варварской практики лоботомии.
— К сожалению, мне никогда не давали много информации о докторе Дженкинс, — говорит она, делая глоток вина. — Но давай отбросим все притворство, Блейкли. Поиски Алекса — это лишь отчасти причина, по которой мы здесь. Есть что-то еще, чего ты хочешь, и не знаю, почему ты думаешь, будто я могу помочь тебе это получить.
Тревога проникает под кожу, мое терпение на исходе. Сколько правды я могу ей открыть? Признаться, что я убила человека? Что я не могу явиться с повинной, потому что эгоистично не хочу зачахнуть в тюрьме? Что сначала я должна исправить этот внутренний дефект, чтобы отбыть суровый срок?
Просто абсурдность моих мыслей заставляет меня чуть не разразиться истерическим смехом.
— Он пытал меня, — говорю я вместо этого. — Он экспериментировал с моим мозгом. Он ввел мне… даже не знаю, что, и теперь я такая… — я замолкаю, разочарование загрязняет мои мысли. — Я — другой человек.
Лондон наклоняется вперед.
— Сделай три глубоких вдоха.
Маниакальный смех вырывается наружу.
— Раньше мне никогда не приходилось делать гребаные вдохи, — но я делаю. Замолкаю, чтобы отдышаться и взять себя в руки. — Я не узнаю себя. Это все равно что каждый день просыпаться в чужой шкуре, это сбивает с толку, пугает. Я не просто хочу найти его; я хочу вырезать его чертово сердце. Облить бензином и поджечь, — заставить его страдать от огня, который должен был стать его судьбой. Мои руки сжимаются в кулаки. — Я хочу отомстить.
Даже когда я признаюсь в этом, когда озвучиваю свое желание Вселенной, я чувствую упущение в своих словах. И доктор Нобл хороша в своем деле — она это видит.
— Страсть — тот еще зверь, — говорит она решительным голосом. — Она может проявляться в самых разных формах. Гнев, страх, отчаяние, месть, одержимость. Любовь, — ее взгляд ловит мой. — И самое сложное — когда сочетается все это.
Мои ногти впиваются в ладони. Запутанные и сложные эмоции, которые я испытываю к Алексу, ежедневно выворачивают меня наизнанку. Мне не нужно, чтобы эта женщина указывала на них. Мне не нужен еще один врач, который морочит мне голову. Я знаю, что больна.
Он сделал меня больной.
Я возмущенно качаю головой.
— У меня есть один мотив, и он заключается в том, чтобы заставить его исправить ущерб, который он причинил, и отменить процедуру, а если он не сможет… — я пожимаю плечами, молчанием подчеркивая мысль. — Миру не нужен такой монстр, как он.
— Ты хочешь, чтобы он изменил курс лечения, — говорит она.
— Больше всего на свете.
— Что, если это невозможно? Что тогда?
— Тогда, как я уже сказала. Я сделаю то, что у меня получается лучше всего. Отомщу.
— Но тогда тебе все равно придется просыпаться каждый день такой, какая ты есть сейчас, — говорит она, применяя приводящую в бешенство логику. — Знаешь, Блейкли, есть еще одна возможность, почему это происходит с тобой.
Я тяжело выдыхаю и тянусь за своим бокалом.
— Лондон, я не пытаюсь вредничать, поскольку ценю твое время, но, честно говоря, психиатрия мне никогда не помогала.
— Тогда это хорошо, поскольку я не психиатр, — ее улыбка обезоруживает. — Как ты сказала, я тесно сотрудничала с Грейсоном Салливаном и другими, подобными ему. Я изучала психопатический склад ума, и уверена, что ты сама часами изучала психопатию, когда поняла, кто ты.
— Конечно, — говорю я.
— Тогда мне интересно, слышала ли ты когда-нибудь о депрессивном типе, — видя, как я недоуменно поднимаю брови, она наклоняется вперед. — В психиатрическом сообществе ведутся некоторые дебаты по этому поводу, когда у психопата ограниченный круг сопереживания самым близким людям. Другими словами, они могут развить глубокую эмоциональную связь с другим человеком, хотя и ограниченную.
— Для подобных мне, это звучит как сказка.
Лондон кивает.
— Так говорит большинство.
— Но ты думаешь, что это возможно, и что у меня каким-то образом возникли сильные чувства к Алексу, — простое произнесение его имени вызывает боль в груди. — Это больше похоже на Стокгольмский синдром. Единственное, что я испытываю к нему, — это глубокое эмоциональное презрение.
— Ты когда-нибудь была близка, по-настоящему близка, с кем-нибудь в своей жизни раньше?
Я серьезно отношусь к ее вопросу.
— Нет. Никогда, — я поднимаю руку, чтобы остановить ее следующий вопрос. — Но ты когда-нибудь диагностировала депрессивный тип?
Она откидывается на спинку дивана, ее плечи расслабляются.
— На самом деле, таким был Грейсон, — она делает паузу, чтобы дать мне переварить информацию. — Или, скорее, он сам поставил себе диагноз. Затем сказал, что мне нужно справиться со своими страстями, — в ее глазах вспыхивает любопытный огонек. — Он был оскорблен, что я сначала отказалась рассматривать такую возможность. Но, в конце концов, я признала, что Грейсон действительно обладал способностью заботиться и даже защищать тех, кого он считал достойными.
От меня не ускользает то, что она называет его по имени.
— Он считал тебя достойной?
— Я думаю, что да.
— Итак, ваша глубокая эмоциональная связь привела к тому, что он похитил тебя. Заставил смотреть, как он совершает убийство. Чуть не убил тебя…
— Каким бы странным ни был мой опыт общения с Грейсоном, да. Для высокоинтеллектуального и ущербного человека, каким он был, его эмоциональные способности были совершенно уникальны. Он любил, по-своему.
Любопытно.
Я наклоняю голову.
— Он был влюблен в тебя, — это не вопрос, но любопытный тон моего голоса очевиден.
— Он верил, что это так, — честно отвечает она, и я ценю ее откровенность. — Но что такое любовь, как не просто химические вещества в мозге, которые заставляют верить в наши чувства?
Моя защита ослабевает. Я устала держаться.
— Извини, Лондон, что я заговорила об этом. Сказать, что ты прошла через ад, — это жалкое преуменьшение, и в мои намерения не входит подвергать сомнению твой опыт.
— Ты бы извинилась раньше? — прямо спрашивает она.