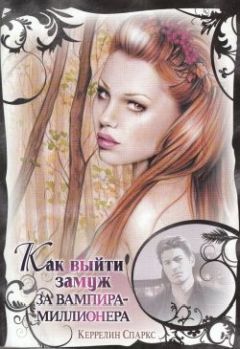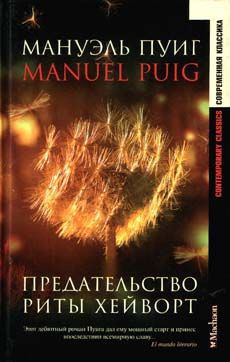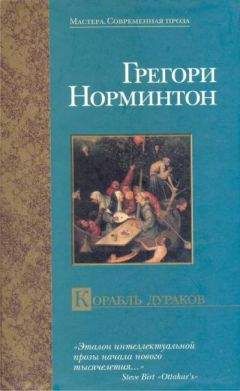Мануэль Пуиг - Любовь в Буэнос-Айресе
Ж. — Как на пейзажах Ниццы кисти Анри Матисса?
Г. — Полупрозрачные, насыщенные белизной тона. «Вы сама собираетесь нести домой такую тяжесть? Если позволите, я помогу вам». По дороге мы разговаривали о хорошей погоде, стоящей на побережье. Дойдя до дома, остановились возле двери и замолчали. Я, боясь какой-нибудь нелепой выходки со стороны матери, не отважилась пригласить его в дом выпить чего-нибудь горячего. Он отвел взгляд от моего лица, с огорченным и вместе упрямым выражением ребенка, получившего взбучку за какую-нибудь провинность, и распрощался, пригласив меня вечером поужинать вместе. Я повалилась на кровать, даже не вынув из сумки принесенной добычи. Мне не давал покоя вопрос: что он делал на берегу в такую рань? Ненадолго задремав, я проснулась в непонятной тревоге и тщетно попыталась заснуть опять. На сей раз сон бежал от меня из-за самого что ни на есть легкомысленного волнения: я ума не могла приложить, как одеться к вечернему ужину. Гардероб у меня практически отсутствовал, а в этот вечер так хотелось блистать в роскошном наряде.
Ж. — А что в вашем понимании «роскошный наряд»?
Г. — Мое представление о роскоши, среди прочего, включает возможность спать до полудня, завернувшись в тонкие льняные простыни — легкие, мягкие и свежие. Ежедневно — свежие, ароматные простыни.
Ж. — Ароматные?
Г. — Да. Простыни расстилаются на залитом солнцем газоне, а когда затем их вносят обратно в дома, они остывают до комнатной температуры, однако тепло, жар не исчезают, а выходят из них солнечным ароматом.
Ж. — Ну, хорошо... Как вы были одеты в вечер свидания?
Г. — Мы ели на ужин лангуста. С белым вином, которое было янтарного цвета (непонятно тогда, почему его зовут белым?)... Когда я была девочкой, самым острым моим тайным желанием было зажать в ладони огонь — эти завораживающие красные язычки пламени, расцветающие на тлеющих углях...
Ж. — А зеленое, с желтыми языками пламя керосиновых горелок?
Г. — А голубые, изысканно одинаковые язычки над газовой конфоркой? Жидкий янтарный огонь в моем бокале — я хотела наполнить им себя в тот вечер, но не могла пить с ним наравне, так как перед выходом из дому приняла успокоительное. Меня терзает страх умереть однажды от неосторожного обращения с лекарствами.
Ж. — Алкоголь с транквилизаторами — как красный свет для машин.
Г. — Время до этого ужина тянулось бесконечно, и я приняла двойную, а может и тройную дозу. Так что когда мы вошли в ресторан, глаза у меня слипались и все плыло. Он тут же не преминул спросить, отчего у меня такой усталый вид. Я ответила, что целый день работала, и попросила его описать свою жизнь в Буэнос-Айресе, этом недоступном моему пониманию городе. Он пил вино, ел мало, больше говорил — о своих проектах, о значимости происходящих в аргентинском изобразительном искусстве процессов. Я чувствовала, что глаза мои помимо воли слипаются, и старалась изо всех сил внимательно вслушиваться в слова Лео, однако тяжесть моих смежающихся век усиливалась гипнозом его губ, рта, усов, двигавшихся в такт речи, растягивавшихся и вновь возвращавшихся в прежнее русло, и глаз, взгляд которых приковывал меня к высокой спинке стула в этом просторном зале ресторана, отделанном под ренессанс...
Ж. — Опишите мне его рот.
Г. — Боюсь, мне не избежать в этом случае банальности: рот его был чувственным.
Ж. — И вскоре вы все-таки уснули.
Г. — Да, так и случилось. Покуда он говорил и смотрел мне в лицо, мне удавалось держать глаза открытыми, но стоило ему опустить взгляд, чтобы извлечь сигару и раскурить ее, — как это мгновение оказалось для меня роковым.
Ж. — Кто вас разбудил?
Г. — Метрдотель. Лео расплатился и ушел. В ресторане уже никого не осталось. Из кухни пришел мойщик с ведром воды и задул светильник.
Ж. — Кто вас проводил до дома?
Г. — Несколько дней спустя я получила заказное письмо из Буэнос-Айреса. Не упоминая об инциденте в ресторане, Лео попросту осведомлялся, укладывается ли в мои ближайшие планы приезд в Буэнос-Айрес для обсуждения моего участия в фестивале в Сан-Паулу... Простите, вы не боитесь, что наша бестактная болтовня может разбудить Лео?
Ж. — Мы можем говорить шепотом.
Г. — Я ответила ему, что приеду, не называя конкретной даты. Уже по приезде, разместившись в отеле и осторожно сложив свои тщательно упакованные работы, я позвонила ему по телефону. Через двадцать минут кто-то, проскользнувший незамеченным мимо консьержки, загромыхал в мою дверь. Я открыла, не в силах от волнения вымолвить ни слова. Это произошло вчера.
Ж. — Как вы были одеты на сей раз?
Г. — Я только успела вымыть голову и обмотала волосы белым полотенцем, на манер тюрбана. На мне был вот этот халат, который теперь валяется на полу, махровый, цыплячье-желтый — цвета, который так гармонирует с загаром.
Ж. — И в дополнение к этому наряду — ваши неизменные темные очки...
Г. — Ни один из нас не произнес ни слова. Так мы и стояли в молчании, покуда он не произнес: «Впустите меня. Если меня заметят стоящим в коридоре, то вышвырнут на улицу». Он переступил через порог. Обнял меня. Поцеловал. Я не сопротивлялась. В течение нескольких минут мы, стоя возле двери, целовались, не в силах оторваться друг от друга. Не вынеся возбуждения и наслаждения, я, наконец, отняла свои губы от его и уткнулась лбом ему в плечо. Тюрбан мой развязался, и полотенце соскользнуло на пол. Он хотел было вновь поцеловать меня, но я не поднимала лица. Он жадно искал мои губы. Я уклонялась. Он распалился. Я попыталась высвободиться из его объятий. Он в ответ стиснул мне кисти своими огромными ладонями, завел мои руки мне за спину и прижал меня к себе с неистовой страстью. Силы его намного превосходили мои, однако я продолжала упираться. Он стал целовать мне шею, все ниже, ртом и подбородком стягивая край халата, покуда не обнажилось плечо, затем добрался до груди. Неожиданно силы его точно утроились, он поднял меня, как пушинку, и опустил на кровать. Я чувствовала себя обессилевшей, но не знала, как бы достойнее капитулировать. Я лежала без движения. Он снял пиджак и начал развязывать галстук, не сводя при этом с меня глаз. Это было чудесно. Я закрыла глаза, чтобы навсегда запечатлеть в памяти этот переполненный желанием взгляд, и больше не открывала их. Я слышала звук его шагов, направившихся к окну, шум опущенных жалюзи, затем вновь шаги — на этот раз приближающиеся ко мне. Открыв глаза, я обнаружила, что он в упор смотрит на меня. Он хотел было снять мои очки, но я попросила не трогать их. Он стянул с меня халат и долго не мог расстегнуть внутреннюю пуговицу на поясе. Наконец, ему это удалось, он раздвинул мне ноги и принялся ласкать самое мое интимное место... Попытайтесь выхватить из огня занявшиеся, искрящиеся, переливающиеся золотистым и багровым четвертушки поленьев или сжать в ладони самый высокий и яркий язык пламени — боль от полученных ожогов будет столь сильной, что, мигом забыв об этой только что соблазнявшей вас красоте, вы с криком отпрянете прочь. Но что делать, если ты безнадежно запуталась в зарослях ежевики и не в силах вырваться из объятий двух дубовых суков — или рук? Остается лишь ждать, когда горящая кожа дотлеет и рассыпется...