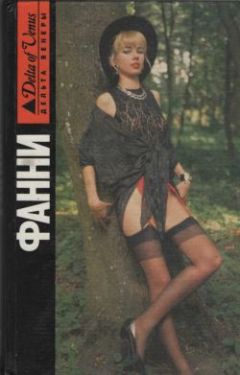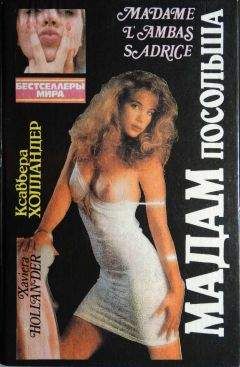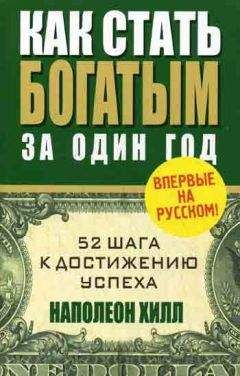Виктор Маргерит - Моника Лербье
Елена Сюз и Мишель д'Энтрайг потребовали джимми и тотчас же сплелись в танце. Вслед за ними закружились Пьер де Сузэ и Сесиль Меер, Макс де Лом, наклонившись к уху Жинетты, рассказывал ей такие сальности, что она захлебывалась от удовольствия, а его превосходительство, предоставленный самому себе, потягивал стакан за стаканом [созерцая с симпатией милую парочку, которую составляла его жена с Антиноем. Сам Тютье с улыбкой вспоминал, какую порку накануне у Ирэны задала ему здоровенная баба. Он признавал только березовые прутья и тонкую бечевку с узлами.)
Откинувшись на стуле, Моника с удовольствием слушала любезности слегка подвыпившего Пеера Риса. Голова ее отяжелела. Она воспринимала только металлический звук его голоса. Смысл слов так мало ее интересовал. Она не искала в нем ума, и для своих целей предпочитала даже, чтобы он оставался тем, чем был, — красивым автоматом для наслаждения.
Он обнял ее за талию. Бессознательная внутренняя работа, происходившая в ней в течение нескольких дней, сразу вылилась в известный план, становившийся все более и более определенным…
Рояль умолк. В темном углу ателье Елена Сюз, Мишель и Аника Горбони растянулись на груде подушек. Турецкая лампа тускло освещала красным огнем переплетающуюся группу…
Моника с тем же равнодушием констатировала, что Сесиль Меер и Пьер де Сузэ исчезли и что Гютье поднялся из-за стола вслед за Жинеттой и Максом де Ломом. Моника заметила, как он опустился в глубокое английское кресло и искоса поглядывал на диван, где лежала его жена, привлекая к себе своего кавалера.
Как ни была знакома Моника с развращенностью этой среды, через которую она сама прошла когда-то, точно саламандра через огонь, она все-таки находила, что ее прежние друзья зашли немножко далеко. По контрасту Пеер Рис, с профилем античной медали, казался ей еще более цельным и приятным. Долгим пожатием руки она ответила на его намек…
В конце концов зачем наслаждаться кратким мгновением только наполовину. Что за нелепый страх перед последствиями, когда она, независимая во всех отношениях, никому не была обязана отчетом? Да почему и не иметь ребенка?.. Ребенка, который воспринял бы от нее здоровое тело и мудрую душу, направляющую жизнь? Ребенка, который от этого отца, забытого завтра же, унаследовал бы лучшие качества: силу и здоровье.
Любовь? Моника больше в нее не верила. Искусство? В той форме, как она его воплощала, — что оно такое? Забава! Иллюзия, скрывающая бесполезность жизни! А ребенок!.. Создать движение, мысль — целую жизнь! И она горделиво приветствовала этот проблеск зари, эту искупительную идею. Ребенок — спутник и цель каждого часа жизни. Моника окинула последним взглядом просторную комнату. [Холодный рассвет уже вливался в полумрак завешенных ламп. Серый полумрак окутывал неподвижные тела, оживляемые на мгновение то вздохами, то движениями.)
Она решительно поднялась, увлекая своего соседа.
— Идем…
Эти несколько недель были неделями безоблачного счастья. Моника с гордостью добилась наконец завоеванной свободы. Впервые испытанное наслаждение без ограничений удовлетворяло, не пресыщая, ее южную жажду сладострастия. До сих пор неясное ощущение приниженности нарушало полноту ее чувств, как бы остры они ни были, в объятиях обладавших ею мужчин.
Допускала ли она только их близость или стремилась к ней, все равно в высший момент экстаза она не могла отделаться от ощущения подчиненности. От них больше, чем от нее, зависела возможность оплодотворения, которого она все еще не хотела. Ее вечное стремление освободиться от объятий до завершения ласки не только отнимало всю сладость этих кратких минут, но иногда влекло за собой глубокую горечь. Она чувствовала возмущение при одной мысли, что от этих случайных прохожих, повелителей на мгновение, может зависеть все ее существо и даже все будущее. [И если бы она не предпринимала мер предосторожности, они даже после своего исчезновения могли оказаться господами двух жизней.]
Девять месяцев она должна была бы потом питать собственною плотью, одушевлять собственным дыханием новое существование — продолжение ее самой…
Разве из всех видов женского рабства эта опасность не была самой худшей, самой оскорбительной?
Материнство имеет свой смысл и величие только в том случае, когда на него соглашаются добровольно, вернее — когда его хотят.
Конечно, подобно многим другим, она могла бы обойти закон природы какими-нибудь предупредительными средствами. Школа Мальтуса, как говорил когда-то так не понравившийся ей Жорж Бланшэ, открыта для всех… [Но она не представляла себе возможности попросить, например, Бриско надеть перед сближением один из тех колпачков, что из предосторожности всегда носила Мишель, прежде чем стать маркизой д'Антрей.] Моника улыбалась при этой мысли, которая прежде возмущала бы ее. [Это нелепое зрелище в ее глазах было унижением и падением. Вооружиться самой, в дополнение к губной помаде и пуховке, каким-нибудь презервативом — нет, уж это совсем отвратительно.] Остановив свой выбор на Пеере Рисе для великого творчества, она вместе с тем освобождалась и от чувства зависимости, и от этих гаденьких забот… Она возвращалась к природе радостно и как равная.
И к этой радости телесного наслаждения присоединялось чувство удовлетворенного самолюбия. Впервые Моника могла проявить целиком всю свою личность. Выбрать для плотского брака самого красивого мужчину, чувствовать радость зачатия, покоряя этой радостью мужчину… Душа Моники горела в экстазе.
Благодарность за полученное наслаждение, превращающее многих женщин в покорных рабынь, снижалась в ней невольной нежностью мальчишки, постоянно сознающего свое превосходство.
Это сознание было в ней так сильно (хотя она никогда не грешила тщеславием) и так часто проскальзывало наружу, что избалованный бесчисленными успехами Пеер Рис скоро начал высказывать недовольство.
Кровь сарацина, смешанная с кровью всех европейских наций, восстанавливала его врожденные инстинкты против такой любовницы, как Моника.
Под своим скандинавским псевдонимом и латинской наследственностью итальянец Пеер Рис (бывший Пьетро), в сущности оказался испанским мавром.
Нагой танцор признавал настоящей подругой жизни только затворницу в чадре. Моника без претензий была бы для него самым очаровательным партнером. Но властная в своем желании иметь от него ребенка, унижая его до исключительной роли жеребца-производителя, она становилась несносной. [Она хотела сына! Он столько их сделал другим женщинам и без всяких осложнений!]