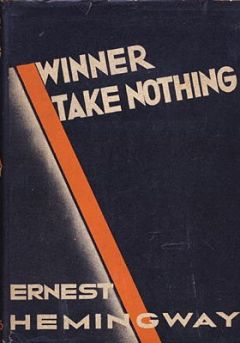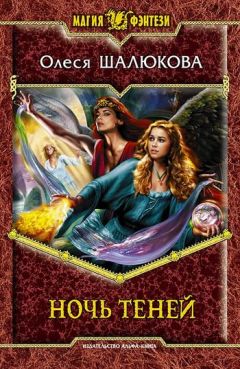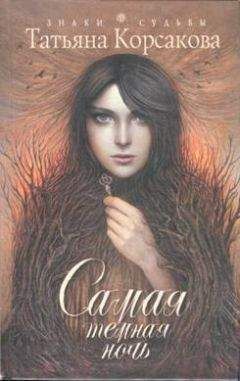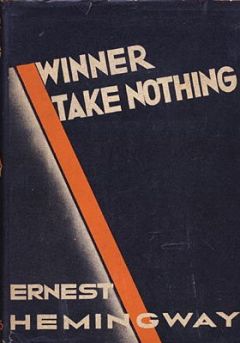Олег Волховский - Маркиз и Жюстина
– И почему ты не водишь машину?
– Потому что навернусь.
– Ты и так навернешься, – говорит Кабош. – Может, передумаешь?
– Да ты, как в монастыре, право! Трижды отречься!
– Во всяком обряде есть свой резон. Так не передумала?
– Нет.
Я подаю ей руку у последней ступеньки. Ладонь холодная и влажная.
Здесь проходит невидимая черта, за которой наши роли меняются: в средневековом подвале, увешанном орудиями казни, стоит жертва и палач. Я посмотрел на нее этим новым взглядом, соответствующим новой роли, и она опустила глаза.
Срываю с нее платье и срезаю лифчик и трусики острым ножом. Кабош помогает. Два палача: мастер и ассистент. На этот раз мастер я.
У стены андреевский крест. Не совсем исторический. Обшитый кожей и мягкий (для удобства нижнего). Надеваем Жюстине кожаные наручи и поножи и кладем ее на крест. Слегка (не до боли) вытягиваем руки и ноги и фиксируем к кольцам. Кабош разжигает огонь в печке, чтобы нагреть клеймо, я беру иглы.
Жюстина мечтает о Нихене, но я не рискую. Иглы ставим, как мне: в плечи и выводя концы наружу.
Эпилируем волосы на попе. Обрабатываем место клеймения антисептиком.
– Жюстина! – зову я.
– Да, – она отвечает очень тихо, язык слегка заплетается.
Я кивнул.
– Нормально. Давай.
Кабош подает раскаленный трискель. Прикладываю к коже Жюстины. Крик, истошный, заполняющий все. Стараюсь не слышать и считаю про себя как можно спокойнее: «Раз. Два». Резко отрываю клеймо. Рука дрожит.
Мэтр изучает ожог.
– Ничего. Не передержал. Надо наложить повязку.
Жюстина без сознания; Кабош сует ей в нос нашатырный спирт; она стонет, открывает глаза. Кабош обрабатывает рану и возится с бинтами. Я отвязываю ее, на руках отношу в гостиную.
Стены, обитые вагонкой, отсветы пламени камина, у огня сидит Кабош, озабоченно смотрит на нас.
– Голова кружится и очень болит, – говорит она. – И подташнивает. Кабош, дай попить чего-нибудь.
Он налил ей стакан сока.
Я взял ее руку. Горячая. Даже слишком.
– Маркиз, Кабош, помогите мне встать. Где здесь туалет?
Ее рвет слизью и только что выпитым соком.
Уложили подальше от камина, чтобы не было даже намека на дым. Кабош отрыл настежь окна: из сада поплыл аромат зацветающих яблонь и первых весенних листьев. Вечер. Сумерки.
Кабош сходил за тонометром. Померил давление.
– Ну что? – спросил я.
– Гипертонический криз. Давно давление повышенное?
Жюстина посмотрела на него со всем удивлением, на которое только была способна в таком состоянии.
– Не знаю.
– Ну, вообще-то, на после экшен на всякий случай анаприлин держим. Но пока обходились, – заметил я.
– Угу! Закон половинок. Из гипертоников только половина знают о своей болезни, а из этой половины – только половина ее лечат, и из них – только половина эффективно.
Он накормил ее какими-то таблетками.
– Лежи! Боль успокоится – зови нас.
Я сел в кресло перед камином.
– Больше никаких иголок и никакого термо, – сказал Кабош. – Загубишь бабу!
* * *– Вставай! Вставай!
Кто-то трясет меня за плечо.
– Отойдите от него! Лицом к стене! Встать!
Я с трудом открыл глаза: надо мною стоят три мента с дубинками.
Медленно сажусь на кровати, покачнувшись, спускаю ноги.
– На выход!
Меня ведут куда-то вверх по лестнице. С трудом переставляю ноги и держусь за стену (слава богу, хоть наручников не надели!). Ступени то и дело начинают плыть перед глазами.
В кабинете за столом сидит незнакомый мне человек в дорогом костюме, отглаженный, аккуратный и чисто выбритый.
– Присаживайтесь, Андрей Максимович. Я ваш адвокат.
Тяжело опускаюсь на стул.
– Государственный?
– Нет. Меня нанял ваш друг, Сергей Лобов.
– Докажите!
Самое страшное в тюрьме – полная информационная изоляция. И окружающая тотальная ложь. Не знаешь, кому можно доверять, и можно ли вообще доверять кому-нибудь. Чувствуешь себя беспомощным, слабым и загнанным в угол. И каждый шаг, как у канатоходца.
Адвокат кладет руку на стол и раскрывает ладонь. Там лежит трискель.
– Вы знаете, что это? – спрашиваю я.
– Да.
– Дайте мне пить.
Он протягивает мне бутылку с минералкой. Я выпиваю сразу весь литр и без церемоний вытираю рот ладонью.
– Спасибо. И поесть что-нибудь.
Открывает пластиковую коробку с бутербродами. Я где-то читал, что из голодовки следует выходить постепенно, на салатиках.
– Фрукты, овощи есть?
– Вот, это от Сергея.
Я уничтожил яблоко и два огурца. Не удержался и стащил пару кусочков колбасы с бутерброда.
– Все. Остальное уберите.
Он кивнул.
– Что с вами?
– Плохо выгляжу?
– Честно говоря, краше в гроб кладут.
– Избиение дубинками, плюс сухая голодовка, чтобы встретиться с вами.
– Больше так не делайте. Здесь связями и посулами можно добиться гораздо большего, чем подобным героизмом.
– Но добился же!
– Они не имели права не допустить адвоката.
– Все равно не хочется лебезить перед этой сволочью!
– Постарайтесь быть поспокойнее, эмоции вам только навредят.
– Постараюсь. Что вы знаете о моем деле?
Знает почти все. Кабош хорошо его проконсультировал.
– А как сами к этому относитесь?
– К чему именно?
– К Теме.
Он улыбнулся.
– С пониманием, но без сочувствия.
– Хитро! Ладно, сойдет. Врач будет?
– Постараюсь организовать. Было бы неплохо доказать применение пыток. Вы наговорили лишнего.
– Что, например? Я же, как под присягой: правду и только правду.
– Здесь важна не правда, а то, как ее будут трактовать.
– Вам тоже все равно, кого защищать, как им все равно, кого сажать?
– Не совсем. Работа есть работа, но не всякая работа в удовольствие. Вы мне симпатичны.
– Вы хоть верите в мою невиновность?
– Это не вопрос веры…
– Ну не как адвокат, как человек?
– Да. Думаю, да.
– Спасибо.
Олег Петрович
А ларчик-то просто открывался. Надо было сразу изучить ее компьютер, особенно файлы, защищенные паролем. В одном из таких файлов и лежал дневник.
Мы так и не нашли твердой копии, вероятно, ее не существовало. После того разговора в «Русском бистро» всю их квартиру перевернули вверх дном. И ничего.
Только когда появились первые публикации в бульварных газетенках, я поверил, что дневник действительно существует, и отнесся к делу серьезнее.
Из дневника Жюстины
С чего все началось…
Вестимо с детства. Года в три мне приснился сон. Речь там шла о гибели корабля (может быть, я где-то слышала про «Титаник»). Помню страх и безысходность. По-моему, не спасся никто. Почему, когда мама ушла, я высыпала из шкафа пластмассовый конструктор с острыми цилиндрическими деталями и пыталась оцарапать себе руку?