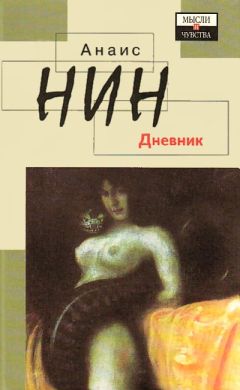Анаис Нин - Дневник 1931-1934 гг. Рассказы
Что она хотела этим сказать? Что Генри — это Д'Аннунцио, а она — Дузе?
— Да, — горько усмехнулась я, — только Дузе давно уже нет в живых, а пьесы Д'Аннунцио живут. И знаменитым стал он, а не Дузе».[12]
Неужели она хочет, чтобы ее знаменитой сделало мое писательство? Чтобы я написала ее портрет так, что портрету кисти Генри Миллера никто не поверит?
Я поэт, и я вглядываюсь в нее. Я поэт, стремящийся написать вещи, которых нельзя было бы написать, не существуй на свете Джун. Но я-то существую тоже, независимо от моих писаний.
Джун сидела, наливаясь шампанским. Я в этом не нуждалась. Она заговорила о действии гашиша. «Да я бываю в таком состоянии и без гашиша. Мне наркотики не нужны, — сказала я, — я все это ношу в себе». Она взглянула на меня с недоверием. Как это так, чтобы мне, художнику, удавалось добиваться состояния прозрения и творческого экстаза, оставляя свое сознание не затронутым? Я поэт и должна чувствовать и видеть. Да только для этого мне наркоз не требуется. Да, я опьянена красотой Джун, но я понимаю, что опьянена.
Понимаю я и то, что в ее историях встречаются явные несоответствия. По беспечности она оставляла множество лазеек для пытливого исследователя, и, сопоставляя одно с другим, я видела, что концы с концами не сходятся. И я могла вынести окончательный приговор, а окончательного приговора она всегда боялась, от него она всегда убегала. Она жила не по правилам, не по планам, и, если кто-то постарался бы привести ее к обычным нормам, — она бы пропала. Такое она, должно быть, видела уже много раз и боялась проговориться. Как у пьяного на языке то, что у трезвого на уме. Не оттого ли ей надо дать мне наркотик, отравить меня, обмануть, запутать?
За обедом мы говорили о духах, об их субстанции, их смесях, их значениях. Как бы мимоходом она сказала: «В субботу, когда мы простились, я купила немного духов для Джин». (Опять эта мужиковатая девка!) А потом добавила, что мои глаза действуют на нее так же, как ее лицо на меня. А я рассказала ей, что ощущаю ее браслет на своей руке, словно она охватила ее своими пальцами и тащит меня в рабство. А ей захотелось накинуть на себя мою накидку. Наконец мы встали и пошли к выходу.
Ей надо было покупать билет в Нью-Йорк.
Мы зашли в несколько агентств. Денег у Джун не хватало даже на третий класс, и она все старалась выпросить скидку. Я наблюдала за этим, как во сне, и непрестанно курила, не нравилось мне ее поведение. Я видела, как она склоняется над стойкой, опустив подбородок на руки, спрашивает, приближая лицо к лицу клерка, а тот нагло пожирает ее глазами. А она такая мягкая, заискивающая, пытающаяся обольстить, улыбающаяся ему, улыбающаяся для него. И я все это вижу.
Нестерпимая боль. Видеть ее клянченье. Я понимаю свою ревность, но не могу понять ее унижения. Мы снова выходим. Переходим улицу. Спрашиваем у ажана, как пройти на Рю де Ром.
Я говорю, что дам ей денег, все, что мне полагается на месяц.
Едва Джун закончила какую-то свою историю, мы вошли еще в одно агентство. Я увидела чиновника, ошеломленного ее внешностью, ее ласковой, вкрадчивой манерой спрашивать, платить, выслушивать инструкции. Я стояла рядом. А вокруг меня осыпалась моя мечта. Мечта о неоскверняемости, холодном достоинстве, благородстве Джун. Я безучастно наблюдала, как французик спросил ее: «Не выпьем ли мы завтра по коктейлю вместе?» Джун в ответ протянула ему руку. «В три часа?» — предложил француз. «Нет, в шесть», — ответила Джун. И улыбнулась ему притворно-ласково, интимно, приглашающе. Когда мы вышли из агентства, она поспешила объяснить: «Он мне нужен, может оказаться очень полезным. Может помочь во многом. Он и в первый класс сунет меня в последнюю минуту. Я не могла сказать «нет». Идти туда я не собираюсь, но отказать ему не могла».
«Раз ты согласилась, ты должна пойти». Глупость я сказала, от нелепости собственных слов мне тут же стало противно до тошноты. Я чуть не заплакала. Схватила Джун за руку: «Не могу я этого вынести, не могу». Я сама толком не знала, чего именно не могу вынести. Но я злилась. На кого? Не на Джун ведь! Она же не виновата, что ее красота так действует на других. Что именно вызывало мое раздражение, я не могла определить. Может быть, ее выклянчиванье? Я подумала о проститутках: они-то ведут себя честно: получают деньги и за это отдают свое тело. А Джун давала только обещания, лживые обещания. Она дразнила, и все.
Почувствовав мое настроение, она взяла мою руку и прижала к своей теплой груди. Сделала это ласково, мягко, как бы утешая меня.
И говорила, говорила, говорила. О вещах, не имевших никакого отношения к тому, что я переживала сейчас. «Ты бы предпочла, чтобы я грубо и резко отказала этому малому? Ты знаешь, я могу быть грубой, когда надо, но только не при тебе. Я никак не хотела задевать твои чувства».
А я промолчала, я ведь не понимала причину своего раздражения. Но дело было вовсе не в том, приняла ли она приглашение на коктейль или нет. Надо бы вернуться назад к первоисточнику, к тому, почему ей понадобилась помощь того человека. И одна из ее фраз пришла мне на память: «В какие бы передряги я ни попадала, я всегда находила того, кто платил за мое шампанское».
Ну конечно! Она была женщиной, без конца берущей в долг, не имея никакого намерения платить, не то что порядочные честные проститутки. А потом еще похвалялась своей сексуальной неприступностью. Вымогательница! Так гордиться своей собственностью, своим телом и так унижаться, позабыв о всякой гордости, глядя проститучьими глазами за стойку конторы пароходной компании.
Она рассказала мне, как они разругались с Генри из-за покупки масла. Денег у них нет и потому…
— Нет денег? Я же тебе в субботу дала, на целый месяц хватить должно. А сегодня только понедельник.
— Ну, надо было заплатить за то, чем мы уже пользуемся.
Я подумала, что она имеет в виду гостиницу, но вспомнила тут же о духах. Что бы ей сказать мне попросту: «Я купила в субботу духи, перчатки, чулки».
То-то, намекая на долги, она отвела взгляд в сторону. И другие ее слова пришли мне на память: «Про меня говорят, что, если мне выпадет богатство, я его моментально промотаю и никто даже не будет знать как. Я деньгам счета никогда не веду».
Такова оборотная сторона фантазий Джун.
Мы шли по улице, тесно прижавшись друг к другу, но весь жар ее тела не мог меня отогреть, не мог успокоить боль.
Едва я вошла в «Америкэн Экспресс», как толстячок у дверей, поздоровавшись, сообщил: «Утром заходила ваша приятельница и попрощалась со мной так, будто больше не вернется».
— Но мы же условились с ней здесь встретиться! Ужас охватил меня. Неужели я больше никогда не увижу, как Джун идет мне навстречу! Это все равно что умереть. Какая ерунда, в конечном счете, мои вчерашние размышления о ней. Но они могли обидеть ее. Конечно, ей дела нет до соображений этики, человек она безответственный, но моя кичливость деньгами нелепа и анахронична. Мне не надо переиначивать ее природу. Нечего ждать от нее моей щепетильности и строгости. Она уникальное существо, не знающее никаких пут. А я скована, у меня принципы. Я не могу позволить Генри уйти голодным. Нет, ее надо принимать целиком, такой, как она есть. Если только она придет — хотя бы на полчаса, хотя бы на мгновение, — я надену ее любимое платье, я не буду задавать ей никаких вопросов, я ничего не скажу о ее поведении.