Анаис Нин - Генри и Джун
Как Генри удалось обыграть меня? Я была готова вырваться из тюрьмы собственного воображения, но он отвел меня в свою комнату, и мы пережили там мечту, но не реальность. Генри определил мне то место, которое захотел. Лесть. Обожание. Иллюзии. Вся остальная его жизнь уничтожена, вычеркнута из памяти. Новая душа. Успокаивающая доза волшебных сказок. Я лежу, лоно мое горит, но он вряд ли это замечает. Мы совершаем обычные человеческие поступки, но на эту комнату наложено проклятие. Это лицо Джун. Я с невыносимой болью вспоминаю одну из записок Генри: «Один из самых напряженных и безумных моментов моей жизни — Джун стоит на коленях посреди улицы». Кого же я ревную — Джун или Генри?
Он снова просит о встрече. Когда я сижу в кресле в его комнате, он опускается на колени, чтобы поцеловать меня, и кажется мне гораздо более странным, чем все мои мысли. Генри давит на меня опытом и умом. Я молчу. Он шепотом подсказывает, что должно делать мое тело. Я подчиняюсь, и во мне просыпаются новые инстинкты и желания. Он вошел в меня, присвоил себе, и я становлюсь бесстыдно-естественной. Меня удивляет, что я лежу на металлической кровати, а мое черное белье разорвано и измято. Мой секрет, моя тайна разрушена человеком, который называет себя «последним мужчиной на земле».
Для нас писательство — не искусство, но воздух, которым мы дышим. После первой нашей встречи я впитала некоторые его слова и фразы. Генри ошеломлен, а я дышу, испытывая невыносимую радость. У меня нет слов, мое чувство неосязаемо, оно меня пугает. Оно выросло в моей душе, пока я шла по улице.
Радость сочится сквозь кожу, она пылает во мне. Я не могу скрывать чувства. Я женщина. Мужчина заставил меня подчиниться. О, как прекрасна эта радость женщины, нашедшей мужчину, которому можно подчиниться, радость открытия собственной женственности, расцветающей в сильных мужских руках!
Мы сидим у камина, и Хьюго неотрывно смотрит на меня. Я увлеченно и красиво рассказываю что-то. Он говорит:
— Никогда не видел тебя такой красивой. Никогда не чувствовал так сильно твою власть. Откуда в тебе эта уверенность? Раньше ее не было.
Он хочет меня, как хотел сразу после визита Джона. Уверенность покидает меня. Хьюго раскрыл мне свою душу и объятия, а я инстинктивно подчиняюсь шепоту Генри. Я обхватываю Хьюго ногами, и он в порыве страсти восклицает:
— Дорогая, дорогая, что ты со мной делаешь?! Ты безумно возбуждаешь меня! Как никогда!
Я обманываю Хьюго, лгу ему, но мир не исчезает в зеленовато-желтой дымке. Безумие побеждает. Я больше не могу складывать мозаику, просто плачу и смеюсь.
После концерта мы с Хьюго уходим домой вместе, как любовники — так он сказал. Это происходит на следующий день после свидания в «Викинге». Хьюго был так внимателен, так нежен. Для него сегодняшний день — праздник. Мы пообедали в ресторане в Монпарнасе. Я придумала, что мне нужно позвонить подруге, потому что утром получила первое любовное письмо от Генри. Письмо лежит в моей записной книжке. Я думаю о нем, а Хьюго спрашивает:
— Ты хочешь устриц? Закажи их сегодня. Это особый вечер. Каждый раз, когда я куда-нибудь иду с тобой, чувствую, будто ты моя любовница. Впрочем, так и есть. Я люблю тебя сейчас больше, чем когда-либо раньше.
Я хочу прочесть письмо Генри, извиняюсь и отправляюсь в дамскую комнату. Читаю письмо там. Оно не очень хорошо написано, но я тронута самим фактом. Не знаю, что еще чувствую. Возвращаюсь за столик. У меня слегка кружится голова. Здесь мы встретились с Генри, когда он вернулся из Дижона, здесь я поняла, что счастлива, потому что он вернулся.
В следующий раз мы с Хьюго идем в театр. Я все время думаю о Генри. Хьюго это знает, он обеспокоен, хочет верить мне, и я его успокаиваю. Хьюго сам передал мне, чтобы я позвонила Генри в восемь тридцать.
Перед началом спектакля мы идем в кафе, и Хьюго помогает найти телефон офиса Генри. Мы с Генри никогда долго не говорим по телефону: «Ты получила мое письмо?» — «Да». — «А ты мою записку?» — «Нет».
После спектакля я провожу тяжелую ночь. Хьюго встает, чтобы принести мне лекарство, снотворное.
— Что с тобой? — спрашивает он. — Что ты чувствуешь? — И предлагает укрыться в его объятиях.
Когда я впервые вернулась после случившегося в комнате Генри, то как будто разучилась говорить; мне было трудно вести себя так, как я привыкла, — живо и непринужденно.
Хьюго уселся, взял свой дневник и принялся увлеченно писать обо мне и об «искусстве», о том, что все, что я делаю, правильно. Когда он читал мне все это, мое сердце обливалось кровью, под конец Хьюго зарыдал. Он сам не понимает почему. Я встала перед ним на колени.
— Что ты делаешь, дорогая? Ну что ты?!
И тут я произношу ужасную фразу:
— У тебя есть интуиция?
Но Хьюго ничего не понял, потому что верен мне, кроме того, некоторые вещи доходят до него несколько позже, чем, скажем, до меня. Хьюго верит, что Генри только помогает мне развить воображение, учит писать. И именно поэтому тоже берется за перо — чтобы я полюбила его за творчество.
Мне так хочется крикнуть ему в лицо:
— Это так по-детски! Твоя верность выглядит так по-детски!
Боже мой, как я стара! Последняя женщина на земле. Существует чудовищный парадокс: отдаваясь другому, я научаюсь больше любить Хьюго; живя так, я уберегу нашу любовь от горечи и умирания.
Правда в том, что это и есть единственный образ жизни, который я могу вести, — на два фронта. Мне необходимо жить двумя жизнями, потому что во мне самой — два существа. Когда я вечером возвращаюсь к Хьюго, в домашние покой и тепло, то чувствую глубокое удовлетворение, как будто это состояние для меня единственно нормальное. Я являюсь к Хьюго цельной женщиной, освободившейся от лихорадочных желаний, удовлетворившей неугомонность, любопытство, всегда угрожавшее нашему браку; я излечилась действием. Наша любовь жива, пока жива я. Я поддерживаю и питаю наше чувство, по-своему храню ему верность, пусть даже мое понимание этого чувства не совпадает с пониманием Хьюго. Если когда-нибудь он прочтет эти строки, то поймет и поверит. Я пишу спокойно и уверенно и жду, когда муж вернется, как другая женщина ждет любовника.
Генри записывает за мной все, что я говорю. Мы записываем высказывания друг друга. Жизнь писателя отличается от жизни других людей.
Я сижу на его кровати, расправив подол розового платья, и курю, а он говорит, что никогда не пустит меня в свою жизнь, не покажет места, о которых так много рассказывал, ведь лучше всего мне подходит Лувесьенн, и я ни в коем случае не должна от него отказываться.
— Иначе ты просто не сможешь жить, — говорит он.


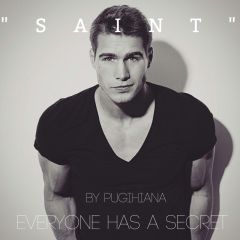

![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](/uploads/posts/books/124/124.jpg)