Неженка (СИ) - "Ann Lee"
— Иди ко мне, — он поднимает меня с колен, — скажи, что я был первый! — бормочет он мне на ухо, сжимая руками.
— Да, ты был первый, — отзываюсь я, и вздрагиваю, когда его пальцы погружаются в меня.
— Как же это охуенно! — он поднимает мои руки над головой, припечатывает их к стенке, одной рукой, закидывает мою ногу, к себе на бедро, и таранит меня пальцами, наблюдая, как я плавлюсь, и растекаюсь, от его ласки.
— Моя! Моя Неженка! — шепчет мне в губы, терзая мою плоть.
А я выгибаюсь на встречу.
Порочная, какая я порочная!
— Твоя! Твоя! — отвечаю ему, теряя себя в этом мужчине.
10
— И вообще мне нужно по магазинам пройтись! — ворчит Люба подмятая Матвеем.
На улице уже давно утро перешло в день. А остатки остывшего кофе, что они пили с утра, засохли ободком на кружках. И давно хотелось, есть, только Матвей всё никак не мог оторваться от неё. Надышаться её запахом, который будоражил все его низменные инстинкты. Наглаживал нежное тело, которое изучил вдоль и поперёк. Исцеловал, изгладил, искусал, оставив свои отметины. Она пахла им. Вся. Полностью. Пахла им. И всё же оставался неуловимый тонкий запах корицы, пробивался из под его тяжёлого и мускусного запаха, тонкий аромат ванили. И это сводило его с ума. И хоть она и ворчала, но не сопротивлялась. Каждый раз, когда он думал, что она его пошлёт, она подчинялась его желанию, делая то, что он хочет, потому что хотела сама.
— И что ты предлагаешь, выпустить тебя из койки? — он нарочито грозно воззрился на неё.
— Хотелось бы, — пискнула Люба.
— И не мечтай, — отрезал он, целуя её губы, которые целовал сто раз, только за это утро, и всё равно с ума сходил от их вкуса.
Мягкие, теплые, отзывчивые. Они тут же раскрываются, впускают его, переплетаются в бешеном поцелуе.
Их отвлекает его телефон. Матвей нехотя отрывается от Любы, и тянется к тумбе, туда, где лежит его трубка, а она, воспользовавшись, случаем, выскальзывает из его объятий и скрывается на кухне.
Звонит мама, и Матвей не может не взять трубку. Он садиться, и принимает вызов.
— Да мам, привет!
— Привет, сынок! — слышится из трубки. — Напутала я опять с проводами, пыль протирала, и, в общем…
— Хорошо, не переживай, сейчас заеду и всё исправлю, — обещает он
— Спасибо, буду ждать, — чувствуется по голосу, что она улыбается. Матвей вообще старается быть хорошим сыном, много он матери задолжал, когда куролесил, по молодости, и поэтому сейчас при любой возможности, отдавал сыновний долг.
В комнату зашла Люба, прикрыв наготу шелковым халатом, она остановилась напротив.
— Приятно слышать, как ты разговариваешь с мамой, уважительно и с теплотой!
— Да, стараюсь, — Матвей встал и потянулся, — было время, помотал я ей нервы, теперь вот грехи замаливаю!
— А что ты такого сделал?
— Я не сделал, — поправил он её, — а делал, — он наклонился, разгребая одежду. — А где мои трусы?
— Понятно, — фыркнула Люба, — истории из разряда «Бурная молодость», — и вышла из комнаты.
Матвей не понял, она, что обиделась что ли?
Он оделся и зашёл на кухню. Люба стояла у окна и смотрела на улицу.
— Неженка, а я не понял, ты чего надулась на меня?
— Мог хоть что-нибудь о себе рассказать, — отозвалась она, не поворачиваясь к нему. — Как только я начинаю задавать вопросы, ты либо отшучиваешься, либо обрубаешь. Так и скажи тогда, что меня можно только трахать!
— Не просто можно, — усмехнулся Матвей, и подошел и обнял её сзади, зарылся носом на её макушке, вдохнул аромат, — а нужно!
Она попыталась оттолкнуть его, но только больше увязла. Он завел её руки за спину, и развернул к себе.
Маленькая, хрупкая, нежная! Какой же силой она обладает! Сама того не ведает, верёвки из него вьёт.
— Ну что ты хочешь услышать? — спросил Матвей, заглядывая в насупленное личико. — Хочешь, чтобы я рассказал, какой был мудак, и как мать тряслась за меня, каждый раз, когда я пропадал, по своим делам. Как плакала и не выпускала меня из дому, а я переступал через неё, презрительно считая это блажью. Как днями и ночами дежурила в больнице, где я отлёживался после очередного ранения. Нравиться тебе такая история? Нравлюсь я тебе теперь? Беспринципный урод, который не жалел никого, даже собственную мать.
Люба смотрела на него широко раскрытыми глазами, но Матвей не видел там не отвращения не испуга, скорее понимание, и жалость.
Ох уж эти бабы!
— Не надо меня жалеть, Люба, — он отпустил её и отошел, — если бы я тогда бы тебя встретил, то отымел бы во все дыры, и выбросил!
— А я не тебя жалею, — отозвалась она, — а твою маму. А то, что ты козёл, я ещё в новый год поняла!
Охренеть! Матвей аж воздухом подавился.
— Да? — протянул он. — Очень интересно, чего не послала тогда?
— Сам знаешь чего, — покраснела она.
— Что так понравилось на моём члене, что закрыла глаза на всё?
— Матвей! — по обыкновению воскликнула Люба.
— Ну а что, Неженка, я козел, а ты белая и пушистая, только ноги раздвинула перед почти незнакомым мужиком!
Матвей тут же пожалел, что это сказал.
С лица Любы сошли все эмоции. Она словно замерла. Только пронзительно смотрела на него, и краснела.
Блядь! Как она краснела!
— Прости, Неженка, я…
— Я не Неженка, и не дырочка, и не белая и пушистая! — вдруг твёрдым голосом проговорила она. — Захотела и раздвинула ноги, а теперь не хочу! Так что, пока!
Она попыталась обойти его, но он поймал её за локоть, поставил перед собой.
— Уверенна? — спрашивает он.
— Уверенна, — и руку вырывает.
Ах, ты ж, блядь! Где тот характер прятался!
Матвей вышел, хлопнув дверью.
Строит из себя покладистую, а сама стерва.
Но сука, как хороша, когда злится. Так бы и загнул бы раком и отымел, что бы завыла, и забыла как звали.
Только Холод был зол. Очень зол. И сам не понимал, что его так разозлило. То, что она его сущность разглядела. Ну да он не ангел. Но для неё хотелось быть другим, лучшим. А не вышло. Да и обидел, взял её, видно по живому резанул. Сама видимо мучается, что отдалась ему нежданно-негаданно.
Холод вдавил педаль, и газанул, вывернул из двора.
Всю дорогу он думал о Любе. Прикидывая, что может всё оставить, так как есть. Скоро вернётся Машка, при мысли о которой стало тоскливо, и надо что-то решать. А Люба, пусть останется приключением. Новогодним подарком. Он же для неё все равно козел, вот пусть так и остаётся.
Вот только, как-то совсем безрадостно стало. Ещё с утра он прикидывал, что они будут делать вечером. Хотел сводить её в ресторан, а потом, долго и нежно раздевал бы её, и снова трахал бы всю ночь напролёт. Потом он вспомнил о вчерашнем минете, и его накрыло с головой. Он сидел перед домом матери, и никак не мог выпасть в реальность.
Епт! Ну какого хрена его так накрыло от этой бабы! Ну, обыкновенная же баба! Чего ему так крышу то сносит?
Пробыв у матери около часа, и решив все её проблемы, Матвей заехал на работу, опять тупо просидел в кабинете, и пошёл тренироваться.
Когда мышцы дрожали так, что казалось, сейчас отстанут от костей, он остановился, почувствовав, хоть какую-то ясность в голове.
Завалился в душ, и долго стоял под горячими струями, решая, куда ему деться. И решил бухнуть в баре. Созвонился с парочкой пацанов, и вот они уже сидят в баре, закидываясь ромом.
Матвей помнил, как они выпивали, как подкатили, к трём девахам, танцевали, смеялись, бухали. Вот только как он оказался перед дверью Любы, совершенно не помнил. Стоял и беспрерывно давил на звонок, навалившись на дверь.
Она открыла, с ужасом воззрилась на него. Стояла в какой-то нелепой закрытой пижаме. Он ввалился в дом, закрыл дверь, и она только пискнуть успела, когда он сгрёб её, и, надавив на щеки, раскрыл ей рот, и вторгся туда языком, сжал её в объятиях так, что она вскрикнула, начал срывать с неё одежду, жадно гладя такое вожделенное тело.
— Ты моя слышишь, Неженка, ты моя! Да я козёл, мудак, придурок, что тебя раньше не встретил! Что обидел тебя! Но ты моя! — он спустился ниже, встал на колени и обнял её за бёдра, уткнулся ей в живот. — Я сдохну без тебя! Если трахать тебя не буду! Если целовать не буду! Сдохну!


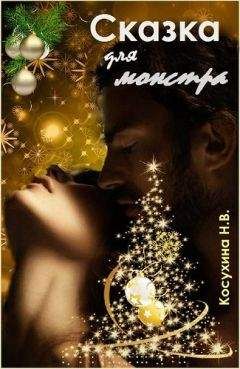
![Борис Хантаев - Праздник живота [СИ]](/uploads/posts/books/87303/87303.jpg)
