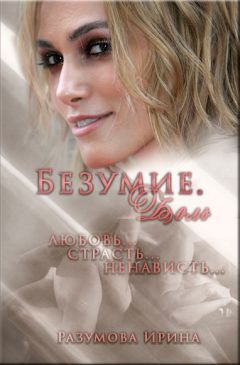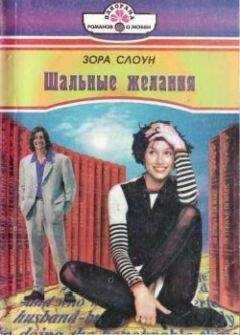Андрей Неклюдов - Нефритовые сны
А вечером!.. Захлебнувшись в объятиях, соединившись, слившись наконец в одно, мы жадно глядели друг другу в глаза и, пока только лишь глядя в глаза – только лишь глядя в глаза! – едва не плакали от пронизывающих нас тончайших вибраций, сродни тем, что выступают предвестниками мощнейшего землетрясения.
Мне нравилось в ней все. Нравилось войти в ванную в момент, когда она, слегка расставив ноги, добросовестно орошала рассыпчатой струей из душа свои сокровенные места и, полу отвернувшись при моем появлении, с напускным жеманством брызгала в меня водой. Или когда она, увлекшись, забыв о моем присутствии, любовно смазывала перед зеркалом свое тело кремом, остаточный аромат которого, смешанный с влекущим запахом ее самой, я буду потом вдыхать, скользя щекой по упругой гладкой поверхности ее ноги. А ее аккуратные гладенькие ступни – о них впору слагать оды! А запах женской плоти, оставляемый ею на мне как напоминание о минутах счастья! А ее страстные покусывания меня в плечо и шею в пылу наших жарких схваток! А ее голосистое бесподобное пение, о котором я уже упоминал!..
– Я твой музыкальный инструмент, – нарочито скромно говорила она после в ответ на мое восхищение. – Именно ты, касаясь губами, извлекаешь из меня эти звуки. Ты бы мог выступать со мной в концертных залах.
И мы хохотали, представляя себе такой концерт.
– Если так, то ты очень чувствительный инструмент, – замечал я с любовью. – И очень звонкий!
– Ты знаешь, что он еще долго после тебя звучит? Сам по себе, хотя и не слышно, но очень, очень долго после того. Я даже не могу из-за этого пописать.
О, мой божественный музыкальный инструмент, моя сладкозвучная вайна!
Лист XXI
По утрам, если позволяло время, я помогал ей одеваться (точнее сказать: я ее одевал). Сперва я делал это, отчасти забавляясь, отчасти повинуясь нечаянно пробудившейся во мне заботливости. Но вскоре это превратилось для меня в приятную потребность, в особое удовольствие – прилаживать, застегивать со спины ажурный, похожий на две цветочные чашечки лифчик, кольцом продвигая вверх кисти рук, легонько разглаживать паутинную ткань колготок; стараясь не касаться пальцами шеи, вытянувшейся в чутком ожидании, обвить ее ниточкой бус – гематитовых, цвета мерцающей ночи, хорошо гармонирующих с ее черными волосами, или более мягких по тону – речного жемчуга; оценивающе отступить на шаг, любуясь создаваемой гармонией.
Возможно, во мне таился до поры дар костюмера. Скоро я достиг подлинной виртуозности в этом искусстве, так что Эля, поначалу от нетерпения начинавшая что-либо напевать или капризно передергивать плечами, в дальнейшем уже не противилась, послушно отдавала мне во власть то одну, то другую руку, поворачивалась, точно на подиуме, склоняла или откидывала назад голову. И от этой ее покорности, почти детской доверительности, от ее волшебного преображения в моих руках создавалась иллюзия, будто и вся она – мое творение, будто я извлек ее из своих снов, материализовал и теперь довожу до идеала.
Когда по утрам она убегала по делам службы, я тоже куда-нибудь отправлялся, так как находиться без нее в пустой квартире, где все как будто бы кричало о ней, изнывало без нее, было особенно нестерпимо. Я только бы и делал, что ходил и гладил вещи, к которым она прикасалась, как когда-то в школе гладил парту, за которой сидела моя первая любовь – Настя. (Правда, несколько раз все же пришлось провести день у телефона, отвечая по шпаргалке на нудные квартирные вопросы Элиных клиентов.)
Бывало, она поручала мне купить какой-нибудь снеди. Надо заметить, мы с ней ничего не готовили – питались консервами, фруктами и хлебом с сыром, запивая это все вином, как герои Ремарка.[5]
Не помню уже точно, в те дни или чуть погодя, во время моих скитаний по улицам в ожидании вечера, мне попалась на глаза одна книга, продаваемая с лотка. Я быстро пролистал ее, изобилующую картинками, и ушел, не оглядываясь. Но примерно через час вернулся и выложил перед продавцом (как сейчас вижу его многозначительную скабрезную ухмылочку) требуемую сумму (из выданных мне на продукты средств).
… Я унес ее, как уносят ребенка. И вот. Как следовало из этой книги, все наши с Элей достижения в искусстве любви, наши самые несусветные выдумки и ухищренные наслаждения – не могли претендовать на оригинальность… Подобное, только с гораздо большим разнообразием и искусностью, тысячелетиями, оказывается, практиковалось на Востоке – в Индии, Китае, Японии, пусть и в достаточно узком кругу посвященных.[6]
Смешанные чувства овладели мной. Признаться, я был заметно уязвлен. Ведь до той поры я заносчиво считал себя непревзойденным генератором эротических фантазий, неиссякаемым сосудом вожделений. Но с другой стороны, мне пришлось по вкусу то, с какой бережностью, открытостью, очищенностью от всяческой моральной шелухи тантрические учения рассматривали сексуальность. Тело женщины воспевалось как Храм Любви, ее секреции – как роса экстаза, любовный сок. Соединение же рта с «йони» представлялось как сакраментальное таинство, дарующее любовникам могучий поток живительной энергии. И хотя я не постиг (возможно, не испытывал в том нужды), как же перекачивать так называемую энергию Кундалини из низов живота к голове, мне казалось, что это писание обращено лично ко мне. Ведь для меня Храм Любви – Женское Тело – всегда стоял на том месте, где у других возвышается храм церковный, а высшее благо заключалась в прикосновении к этому Храму. И если бы я верил в загробную жизнь и мне предоставили выбор – я райским вратам без сомнения предпочел бы «нефритовые».
Лист XXII
Женщина… Не только само это слово всякий раз заставляло мою душу всколыхнуться, но даже тот факт, что какой-то части людского множества выпало говорить: «я пришла», а не «я пришел», «я сонная», вместо «я сонный» и тому подобное – бывало, потрясал меня, как чудо. Восхитительнейшее из чудес!
Давно мечтающий о том, чтобы хоть на миг, хоть краешком сознания погрузиться в чувственный мир женщины, я настойчиво выпытывал у Эли, когда и как она впервые ощутила в себе женскую стихию и как эта стихия росла и захватывала душевные пространства. Поначалу, однако, я получал на свои вопросы лишь маловразумительные пунктирные ответы, перемежаемые смешками и шутками. Между тем, и этих зернышек оказалось достаточно, чтобы на тучной и хорошо возделанной почве моего воображения проросли, распустились причудливыми растениями чужие (странно говорить о чем-то Элином – «чужие») воспоминания, восприятия, переживания. Словно медитирующий даос, я всеми силами стремился покинуть мое одноликое тело, мое окостенелое мужское самосознание и воплотиться в маленькую девочку, девушку, женщину Элю. И в конце концов мне это удалось. Мне кажется, что удалось.