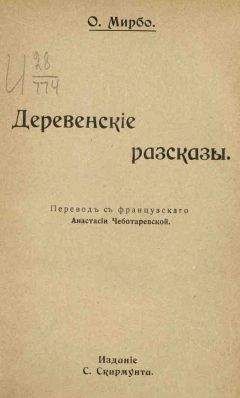Октав Мирбо - Дневник горничной
Солнечный жар становится сильнее, туман рассеялся и пейзаж проясняется. В конце долины, среди холмов виднеются деревушки, залитые розовым светом; речка протекает по долине то зеленая, то желтая, отливающая серебром на излучинах. Легкие облака украшают небо своими красивыми фресками. Но я не могу наслаждаться этим видом. Только одно желание, только один порыв охватывает меня — убежать от этого солнца, от этой долины, от этих холмов, от этого дома и от этой толстой женщины, которая своим злословьем терзает мне душу, приводит меня в бешенство.
Она наконец решается расстаться со мной, берет меня за руку, с чувством жмет ее своими толстыми пальцами и говорит:
— И затем, моя дорогая, имейте в виду, госпожа Гуэн очень милая женщина… и очень ловкая… К ней нужно почаще заглядывать.
Она опять останавливается и с еще большей таинственностью прибавляет:
— Сколько раз она уже молодым девушкам помогла! Как что-нибудь замечают… так тотчас же к ней идут… И никому ни звука. Уж я вам скажу… на нее положиться можно. Это очень… очень умная женщина…
Глаза у нее горят, она пристально глядит на меня и с какой-то странной настойчивостью повторяет:
— Очень умная… и ловкая… и… могила! Это настоящее благословение для нашего края. Ну идем, моя милая, не забывайте же заглянуть к нам. И почаще заходите к госпоже Гуэн… Вы об этом жалеть не будете… До скорого… до скорого свидания!
Она уходит. Я вижу, как она удаляется, раскачиваясь на своих кривых ногах, идет вдоль стены, забора, затем поворачивает на какую-то дорожку и вдруг скрывается из виду.
Я прохожу мимо кучера-садовника Жозефа, который очищает аллеи. Я думаю, что он сам заговорит, но он молчит. Он только искоса поглядывает на меня с каким-то странным выражением в глазах, от которого мне становится жутко.
— Хорошая погода сегодня, господин Жозеф…
Жозеф ворчит что-то сквозь зубы, сердит за то, что я позволяю себе идти по аллее, которую он расчищает…
Какой это смешной и неотесанный человек. Почему он никогда со мной не заговаривает? И почему он никогда не отвечает, когда я с ним заговариваю?
Дома застаю хозяйку недовольной. Она меня встречает очень сурово и делает выговор:
— Впредь, пожалуйста, не разгуливать так долго.
Я так раздражена, что мне хочется возразить. Но, к счастью, я овладеваю собой. Я только ворчу про себя…
Что вы говорите?
Я ничего не говорю…
— То-то. И я вам запрещаю гулять со служанкой Може. Это очень плохое знакомство для вас… Посмотрите… Все опоздало сегодня из-за вас.
А я говорю себе в это время:
— Наплевать! Нашла дурочку… Я буду говорить, с кем захочу… Буду встречаться с кем вздумается… Что ты, закон для меня, верблюд ты этакий!
Мне стоило только услышать ее пронзительный голос, увидеть ее злые глаза и самодурство, как мгновенно изгладилось то отвратительное впечатление, которое я вынесла от обедни, от торговки и от Розы. Роза и обе лавочницы правы, все они правы. И я даю себе обет встречаться с Розой, заходить к лавочнице, подружиться с этой грязной торговкой, потому что хозяйка мне это запрещает. И с каким-то диким упрямством я повторяю про себя:
— Верблюд, верблюд, верблюд!
Мне стало бы гораздо легче, если бы я осмелилась громко крикнуть это ей, бросить ей в лицо это оскорбление.
Днем, после завтрака, господа уехали в карете… Уборная, комнаты, бюро барина, все шкафы, буфеты — все было заперто на ключ. Что я говорила? Не угодно ли?
Я сидела в своей комнате и писала письма: матери, Жану и читала «В семье». Какая прелестная книга! И как хорошо она написана! Странно… Я люблю слушать всякие пошлости, но я не люблю их читать. Я люблю только такие книги, над которыми приходится плакать.
За обедом сегодня было потофе. Мне показалось, что господа дуются друг на друга. Барин с каким-то вызывающим видом читал «Petit Journal»… Он мял газету и вращал своими добрыми, смешными и мягкими глазами. Даже тогда, когда он сердится, глаза его остаются мягкими и робкими. Наконец, чтобы завязать, вероятно, разговор, барин, не отрывая глаз от газеты, воскликнул:
— Так! Опять женщину на куски разрезали…
Барыня ничего не ответила. В черном шелковом платье, с резким и суровым лицом, она все сидела и думала… О чем? Может быть, она из-за меня дуется на барина.
IV
26 сентября.
За всю неделю я не могла ни одной строчки написать в своем дневнике. Когда наступает вечер, я себя чувствую утомленной, совершенно разбитой. И я думаю только о том, чтобы скорее лечь и заснуть. Заснуть! Если бы я могла навеки заснуть!
Ах, Боже мой, что это за казармы! Трудно и представить себе.
Из-за какой-нибудь безделицы хозяйка вас заставляет бегать вниз и вверх по этим проклятым этажам… Не успеешь присесть в прачечной и перевести дух, как… динь! динь! динь! нужно подниматься и бежать… Вам неможется — ничего не значит… динь! динь! динь! По временам я чувствую такие страшные боли в пояснице, в животе, что готова бываю закричать… Неважно… Динь! Динь! Динь!
Некогда даже болеть, не имеешь права страдать. Это — роскошь, которую могут себе позволить только господа. А мы должны бегать, всегда и скоро бегать… бегать, пока не свалимся… Динь! Динь! Динь! А если вы на зов колокольчика опоздаете немного, посыплются упреки, начнутся сцены.
— Да что с вами такое? Не слышите? Оглохли? Я уже три часа звоню… Это бесит, наконец…
А часто бывает так:
— Динь! Динь! Динь!
Вы соскакиваете со стула, как пружина…
— Принесите мне иголку.
Я бегу за иголкой.
Хорошо! Принесите мне нитки.
Я бегу за нитками.
Так! Принесите мне пуговку.
Я бегу за пуговкой.
— Что это за пуговка? Я у вас такой не просила. Вы ничего не понимаете… Белую пуговку, № 4… И скорее!
И я бегу за пуговкой № 4… Вы понимаете, как я бешусь, как я в душе ругаю и проклинаю свою хозяйку? А во время моей беготни взад и вперед, вверх и вниз барыня передумала — ей требуется что-нибудь другое или она совсем раздумала:
— Нет… Отнесите иголку и пуговку… Мне некогда…
У меня спину ломит, ноги подкашиваются, я без сил… Этого и нужно ей было. Она довольна… И говорите после этого, что существует общество покровительства животным…
Вечером, во время своего обхода, она в прачечной налетает на вас, как буря:
— Как? Вы ничего не сделали? На что у вас дни уходят? Я вам плачу деньги не для того, чтобы вы шлялись от утра до вечера.
Такая несправедливость меня возмущает, и я отвечаю немного резко:
Но вы сами, барыня, меня все время отрывали от работы.