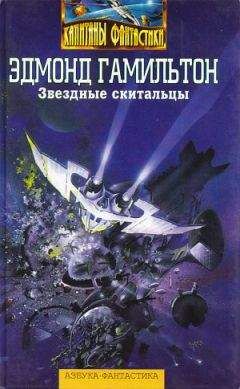Энн Райс - Белинда
«„Юнайтед театрикалз“, конечно же, откажется от комментариев, — пылал праведным гневом Блэр Саквелл. — И что, черт возьми, они могут сказать? И почему всех в первую очередь не интересует, что заставило девочку убежать из дома? А тот факт, что она в результате нашла приют у Джереми Уокера, разве не свидетельствует о том, что ей больше некуда было идти?!»
Блэр размахивал каталогом на глазах у миллионов зрителей шоу Дэвида Леттермана. «Конечно, картины великолепные. Она красива, она талантлива — так чего же вы хотите?! Я вам больше скажу. Чертовски приятно видеть полотна, в корне отличающиеся от современных картин, при виде которых создается впечатление, будто какой-то двухлетний карапуз взял две упаковки яиц и стал бросать их одно за другим на чистый холст. Я хочу сказать, что, Господь свидетель, этот парень умеет рисовать!»
На шоу Ларри Кинга Блэр обрушился на Марти и Бонни. Белинда исчезла сразу после инцидента со стрельбой. И Блэр хотел бы знать, что же тогда там произошло. Что касается картин, то они вовсе не порнографические. «Мы же не говорим здесь о журналах „Пентхаус“ или „Плейбой“! Этот человек — художник. И раз уж речь зашла о картинах, у меня есть встречное предложение: Белинда получит сто тысяч долларов, если согласится рекламировать „Миднайт минк“. И если Эрик Арлингтон откажется фотографировать, я сделаю это сам. Господь свидетель, у меня есть „Хассельблад“[25] и тренога! Я в течение многих лет говорил Эрику, как надо снимать, так что, пожалуй, пора начинать самому. Невелика хитрость — нажать на кнопочку! Да, черт возьми, я вполне могу справиться сам!»
Теперь все американские газеты одновременно напечатали статьи о Блэре Саквелле и моей выставке. Из Нью-Йорка позвонила мой литературный агент Джоди, которая сообщила мне, что в лос-анджелесских газетах помещены статьи о Сьюзен Джеремайя и о ее фильме, который «Юнайтед театрикалз» «подвергла цензуре».
Еще я получил два сообщения, правда без комментариев, от моего агента из Лос-Анджелеса. Мой нью-йоркский издатель тоже звонил и тоже оставил сообщение.
В воскресенье, в семь вечера, я обедал на кухне, передо мной на столе стоял стакан шотландского виски. Я знал, что музейщики уже начали прибывать в галерею на Фолсом-стрит. Райнголд за месяц уведомил их о специальном показе. И кроме того, следуя полученным инструкциям, организовал рассылку каталогов во все страны мира.
Именно представители музейного сообщества — из Уитни, Тейта, Центра Помпиду, Метрополитен,[26] Музея современного искусства в Нью-Йорке, а также из десятка самых разных музеев — прибыли, чтобы первыми оценить картины.
Кроме того, сегодня вечером выставку посетят человек двадцать — тридцать меценатов — любителей искусства: миллионеры из Лондона, Парижа и Милана, присутствие которых является особой честью, поскольку пополнение их коллекций играет не менее важную роль, чем пополнение музейных фондов, и именно на них хотят произвести впечатление арт-дилеры.
Вот почему эти люди так много значили для Райнголда. Вот почему эти люди так много значили для меня. И хотя каждый мог приобрести любую из картин с изображением Белинды, у них было право первого выбора.
Но тут еще большой вопрос, приедут ли они в неизвестную галерею на Фолсом-стрит в Сан-Франциско даже ради Райнголда, который угощал их обедом и поил в лучших ресторанах Берлина и Нью-Йорка.
Я сидел, сложив руки на груди и откинувшись на спинку стула, и вспоминал, как много лет назад, когда работал в своей мастерской на Хейт-Эшбери и хотел быть художником, просто художником, ненавидел всю эту публику — музейщиков и галеристов. Действительно ненавидел.
Во рту пересохло, словно меня вот-вот должны были повести на расстрел. Часы назойливо тикали. Белинда не звонила. И операторы не прерывали монотонного бормотания автоответчика словами: «Срочный звонок от Белинды Бланшар, освободите, пожалуйста, линию».
Райнголд пришел совсем поздно. Вид у него был хмурый. Он непрерывно вытирал лицо платком, словно вспотел от жары. Хотя так и остался в своем черном пальто. Райнголд бессильно опустился на стул, обратив бессмысленный взгляд на стакан с виски.
Я не сказал ни слова. Ветер за окном раскачивал и гнул к земле тополя. Я едва разобрал очередное сообщение по автоответчику: «…если вас не затруднит, позвоните мне утром. Я один из тех, кто организовывал ваше турне по Миннеаполису, и мне хотелось бы задать вам пару вопросов…»
Я посмотрел на Райнголда. Если он мне так ничего и не скажет, я точно умру, но я не собирался ни о чем его спрашивать.
Райнголд скривился при виде виски.
— Хочешь чего-нибудь другого?
— Весьма любезно с твоей стороны! — фыркнул он. Было видно, что он весь дрожит. Неужели от ярости?
Я достал из холодильника белое вино и наполнил его бокал.
— Всю свою жизнь, — начал Райнголд, — я пытался заставить людей подходить к искусству беспристрастно, оценивая лишь достоинства самой работы. Не говорить о предварительных продажах и статусных покупателях, о моде и преходящих увлечениях. Просто смотрите, говорю я своим клиентам. Смотрите на сами картины.
Я сел напротив него, поставив локти на стол. Райнголд не отрывал глаз от своего стакана.
— Приходится прибегать к отвратительным ухищрениям и рекламным трюкам, — продолжил Райнголд. — Мне просто противны уловки, к которым прибегают второразрядные художники для рекламы своих работ.
— Я тебя за это не виню, — отозвался я.
— И вот теперь я оказался в центре скандала, — побагровев, произнес Райнголд и выкатил на меня глаза, которые за толстыми стеклами очков казались огромными. — Могу поклясться, что там собрались представители всех музеев мира. Я еще не видел такого аншлага ни в Берлине, ни в Нью-Йорке.
Я почувствовал, как у меня мурашки поползли по коже.
Райнголд схватил со стола бокал с вином, будто собрался швырнуть его в меня.
— Ну и чего хорошего здесь можно ожидать?! — требовательно спросил Райнголд, сверкая на меня глазами, похожими на две золотые рыбки за аквариумным стеклом. — Я хочу сказать, ты понимаешь, как это опасно?
— Ты с самого начала непрерывно меня предупреждал, — ответил я. — Меня окружают люди, которые непрерывно меня обо всем предупреждают. Белинда имела привычку предупреждать меня по три раза в неделю.
Какого хрена он тянет?! Что происходит? Они что, оплевали мои холсты? Подняли меня на смех? Сказали ожидающим их репортерам, что мои картины — халтура?
Я глотнул виски, и мне стало легче. Неожиданно меня пронзила тоска, глубокая печаль. На долю секунды перед моим мысленным взором возникла картина из прошлого. Мы с Белиндой вдвоем в мастерской, из радиоприемника льется музыка Вивальди, я рисую, Белинда лежит, растянувшись, на полу и читает «Вог» на французском. Но в один прекрасный день боль уйдет.