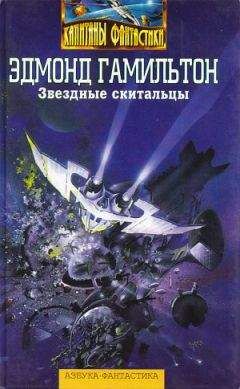Энн Райс - Белинда
Ну так вот, было уже пять часов вечера по нью-йоркскому времени, когда я оставила все попытки хоть немного поспать и отправилась на поиски Джи-Джи.
Естественно, о Джи-Джи в Нью-Йорке слышали все, но ни швейцар, ни таксисты не знали, где находится его знаменитый салон. Одни говорили, что Джи-Джи работает исключительно как свободный художник, другие — что это закрытое заведение.
В результате я сдалась и отправилась в отель «Ле Паркер меридиан», чтобы обналичить дорожные чеки, а затем вернулась в «Алгонквин» и попыталась разыскать для начала Олли Буна.
В свое время Блэр Саквелл говорил, что Олли Бун недавно поставил новое шоу, я навела справки у портье. Да, новый мюзикл Олли Буна под названием «Долли Роуз» как раз идет на Сорок седьмой улице, буквально за углом отеля.
Сорок седьмая улица была забита лимузинами и такси. Толпы людей, оставив тщетные попытки припарковаться, последние два квартала шли пешком в сторону расположенных в конце улицы театров. Я подошла к стоявшему в дверях капельдинеру и сказала, что мне необходимо видеть Олли Буна. Я назвалась его племянницей из Каннов и заявила, что у меня к Олли чрезвычайно важное дело и мне необходимо срочно с ним переговорить. Я взяла программку, вырвала оттуда листок и написала: «Это Белинда. Совершенно секретно. Надо найти Джи-Джи. Совершенно секретно. Помогите!»
Капельдинер очень быстро вернулся и затем провел меня через маленький театр к боковому выходу за кулисами. Олли разговаривал по телефону в крошечной гримерной прямо под лестницей. Он исполнял роль ведущего шоу и уже был во фраке, с цилиндром на голове и полностью загримирован.
— Джи-Джи уже дома, моя ненаглядная. Можешь поговорить с ним по телефону, — улыбнулся мне Олли.
— Папочка, мне срочно нужно с тобой встретиться! — выпалила я. — Это совершенно секретно!
— Белинда, я приеду и заберу тебя. Я очень волнуюсь! Через пятнадцать минут выходи на Седьмую авеню и ищи машину Олли.
Когда я оказалась на Седьмой авеню, меня уже ждал лимузин, и через секунду я была в папиных объятиях. Нам потребовалось пятнадцать минут, чтобы пробиться через нью-йоркские пробки и добраться до лофта Олли в Сохо. За это время я успела в общих чертах описать ситуацию. Я рассказала папе о маминых угрозах разорить его, если я только посмею приехать к нему, о том, как мама выжила его из Парижа и как я попала в такую передрягу.
— Хотел бы я посмотреть, что она может мне сделать, — ответил папа, который здорово завелся.
Видеть папу в таком состоянии было по меньшей мере странно. Он такой добрый и мягкий, что просто невозможно представить его в ярости. Когда он в гневе, то чем-то напоминает мальчишку, пытающегося сыграть сильные чувства в школьном спектакле.
— Ладно, в Париже ей все удалось, потому что она была хозяйкой того салона, — продолжил Джи-Джи. — Знаешь, она тогда мне его отдала, но не стала записывать на мое имя. Ну а салон Джи-Джи в Нью-Йорке — это моя квартира. И единственное, что действительно имеет значение, — книга записи клиентов.
Когда я поняла, что она действительно выжила его из Парижа, то ужасно расстроилась. Но папочка был таким милым и так рад меня видеть! Мы с ним всю дорогу целовались и обнимались, совсем как в Каннах. Да и выглядел он просто замечательно — с головы до ног, — а может, я все же была слегка пристрастна, потому что именно от него унаследовала эти голубые глаза и эти белокурые волосы.
Хотя, положа руку на сердце, нельзя не признать, что Джи-Джи любят все. Ведь он такой добрый и такой милый!
Лофт Олли словно сошел со страниц журнала. Бывшая фабрика, переделанная под жилье, с бесчисленными позолоченными трубами и подпорками и бесконечными деревянными полами. Комнаты были устланы самыми разнообразными коврами и обставлены предметами антиквариата, которые освещались точечными светильниками. Стены, казалось, нужны были только для того, чтобы вешать на них картины, зеркала или то и другое вместе. Мы уселись напротив друг друга на обитые парчой диваны возле камина.
— А теперь расскажи мне все по порядку, — попросил папа.
Как я уже упоминала, за прошедшие месяцы я не нашла никого, с кем могла бы поговорить. И вообще не в моем характере делиться своими переживаниями. И что я могла рассказать?! Что мама у меня пьющая, сидящая на таблетках и склонная к самоубийству?! И вот моя жизнь, но о ней не стоит распространяться. Но сейчас я начала говорить, и меня будто прорвало.
Господи, какая крестная мука переживать все заново, мысленно возвращаться в Канны и Беверли-Хиллз, пытаться воссоздать целостную картину! Но остановиться я уже не могла.
И вот так, запинаясь, оговариваясь, захлебываясь от рыданий и оглядываясь на прошлое, я сумела посмотреть на вещи совершенно с другой стороны. И картина получилась довольно безобразной. Но я даже передать не могу, как тяжело мне было выкладывать все начистоту, поскольку это было противно моей натуре.
Здесь я хочу объяснить, что, сколько себя помню, я постоянно врала. Врала обслуге в отелях, докторам, репортерам. И конечно же, мы не сговариваясь врали маме. «Пойди и скажи маме, что она выглядит великолепно», — говорил мне дядя Дэрил перед пресс-конференцией в Далласе, хотя на самом деле маму всю трясло, выглядела она ужасно и даже толстый слой косметики не мог скрыть похмельные мешки под глазами. «Скажи маме, что она может не волноваться, тебе не хочется больше ходить в школу и ты останешься с ней на Сент-Эспри». Или: «Только не надо говорить об аварии, только не надо говорить о ее пристрастии к алкоголю, только не надо говорить о репортерах, только не надо говорить о фильме, и тогда все будет очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо».
Ложь, всегда одна сплошная ложь. Но о чем думала я сама? Обрывки, отдельные фрагменты, которые я никогда не пыталась состыковать. И вот сейчас, рассказав эту печальную историю своему дорогому папочке, я наконец поняла, что обрываю последние нити, связывающие меня с мамой.
Когда я пишу данные строки, то уже во второй раз пытаюсь представить правдивый и непредвзятый взгляд на имевшие место события, и мне отнюдь не легче оттого, что я сейчас одна в пустой комнате за тысячи миль от тебя.
Как бы то ни было, Джи-Джи не стал мучить меня вопросами. Он просто сидел и слушал, а когда я закончила, сказал:
— Ненавижу твоего Марти. Всеми фибрами души ненавижу.
— Нет, папочка, ты не понимаешь, — произнесла я, умоляя его поверить мне, что Марти действительно меня любил и сам не ожидал подобного поворота событий.
— Когда я увидел его, то принял за арабского бандита, — заметил Джи-Джи. — Решил, что он хочет угнать ту яхту в Каннах. Ненавижу его. Хотя ладно, ты ведь говоришь, что он любит тебя. Я вполне могу поверить, что тип вроде него вполне способен тебя полюбить. Но не потому, что он такой, а потому, что тебя невозможно не любить.