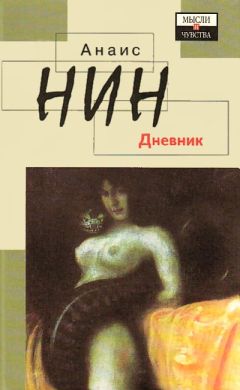Анаис Нин - Дневник 1931-1934 гг. Рассказы
…Я начала письмо отцу словами: «Quelle triste heures…» и тут же сообразила, что собиралась написать «henreuse» вместо «heures»[113]. Разоблачительно. Я должна была рассказать ему, как мне грустно, что не могла приехать в Валескур. Почему? Почему?
Вспоминаю забавный эпизод во время чтения того места из моих ранних тетрадей, где мать рассказывает о том, как она приняла предложение отца. «Я взглянула на его прекрасные голубые глаза, длинные черные волосы, на его залатанные штаны… и сказала «Да».
Отец, отдыхавший после врачебной процедуры, чуть не вскочил с кровати. Благородное негодование! Полушутя, полусерьезно он воскликнул: «Залатанные штаны! Quelle blaspheme![114] Я, я в залатанных штанах, ты можешь себе такое представить? Да я в чинёных брюках и из дому бы не вышел, затворился бы, как в монастыре». И вправду эти понятия абсолютно не сочетались: мой отец в чинёных штанах!
У него есть трогательные шутки, которыми он прикрывает свою ранимость, маскирует ее под юмор, ироничность, насмешку над собой. Он потом напишет мне после получения от меня дорогого подарка: «Преступная расточительность. С чего бы тебе стать такой мотовкой? Ах, да! Ты же произошла от пары залатанных штанов!»
Юмор. Юмор на краю несчастной, трагической тайны, такой же, как и у меня, веселость для других, словно букет в серебряной бумаге, на периферии, тогда как в центре…
Единственное мягкое и способное волновать его качество. Я понимаю, как он формирует свою жизнь, инструментирует ее, словно дирижер. Музыкальная сложность и ее раскрытие. Каждое слово, каждое чувство, каждое движение обдумано, некий синтез порыва, движения. В эту минуту он прав. Момент выбран верно. Свет. Пространство. Жизнь оркеструется, формируется его волей. Когда мы прогуливаемся рядом, он не берет меня под руку. Движение укрощено, движение отлито в форму. Жизнь, в которой нет места небрежности, неряшливости, несдержанности, случайности. Стиль. Форма. Теперь вы можете идти. Наденьте ваше вечернее платье. Никакого беспорядка, капризов, фантазий.
А Генри ломает все шаблоны, все формы, разбивает скорлупу, рушит все построения искусства, и то, что появляется в результате, пусть несовершенно, но по-человечески тепло.
Мой бунт против отца затихает. Я всматривалась в его фотографию, ему на ней двадцать лет. Подумала о его стоицизме, о его воле, которой он подчиняет свои настроения, свой хаос, свою меланхолию. Мы с отцом показываем миру только лучшее в нас. Я думала о его причудливости, о его веселости в минуты, когда он на самом деле тоскует. Но не хочу я гипсовой повязки стоицизма на мое лицо и мое тело. Я хочу выбраться из моей скорлупы. Победить эту проклятую, ограничивающую меня робость.
Октябрь, 1933
Надо учиться одиночеству. Никто по-настоящему не следует за мной до конца, никто не понимает меня полностью. Отец ушел в светскую жизнь, возит Марукину мать по фешенебельным домам, по кинотеатрам и все такое. Генри эгоистичный, как все творческие люди. Он еще лучший образец.
Милый мой дневник, ты мешал мне как писателю, но поддерживал меня как человеческое существо. Я создала тебя, потому что нуждалась в друге. И в разговорах с этим другом я, может быть, делаю свою жизнь богаче.
Сегодня я начинаю работать. Писать, так как враждебность мира привела меня в уныние. Писать, чтобы ты дал мне иллюзию теплоты окружающей среды, в которой я смогла бы цвести. Моя работа разведет меня с тобой. Но я не отказываюсь от тебя. Нет, мне нужна твоя дружба. Как раз, когда я окончу работу, я оглянусь вокруг, а с кем еще может поговорить моя душа без боязни остаться непонятой? Именно здесь дышит моя любовь к покою, дышит покой.
Отложила в сторону дневник и написала первые двадцать страниц истории Джун. Беспристрастно, без предубеждений. Продуманный порядок. Бесполезные детали выброшены.
Отец пишет мне:
«По-настоящему я ошибся в жизни только один раз — женившись на твоей матери. Но я был тогда очень молод, а она, сознательно или бессознательно, играла роль. Она одурачила меня и сбросила маску только в день нашей свадьбы».
«Театр жестокости» Арто его шокировал: «Больной, невротичный, неуравновешенный наркоман. Я не верю в его демонстрацию своей болезни миру. В его драматизацию своего безумия».
Диссонанс между отцом и мною. Я написала ему два письма: сообщала новости о Торвальде и передавала мой разговор с Хоакином. Однако впечатление от этих новостей было испорчено тем, что мое письмо пересеклось с его письмом и произошел беспорядок. Вот в чем главная беда: я обязана была дождаться его ответа на мое письмо и уж затем написать следующее, а так я дезорганизовала налаженный ход переписки, чем очень его расстроила. Я писала ему иронизируя, подсмеиваясь над собой, так как не обращала внимания на дирижерские указания, играла импульсивно и разрушала тем самым симфонию. В глубине души я ведь чувствовала, что этот безжалостный и безупречный порядок, убивающий всякую непосредственность и натуральность, никуда не годится.
Но подлинная трагедия наших отношений заключалась в том, что мы оба воздвигли себе идеал, романтически чистый образ; мы оба собирались посвятить себя исключительно друг другу. Мы решили не лгать друг другу, стать наперсниками и друзьями. Но, будучи поразительно похожи, мы неизбежно срывались с этого высокого уровня: я скрывала от него свою богемную жизнь, а он от меня своих любовниц. Конечно, для меня были совершенно прозрачны его лицемерные извинения перед Марукой, что он отправляет ее в Париж на десять дней раньше, а сам вернется один на тридцатый день. Я отчетливо представляла себе, как он принимает любовницу в той же самой гостинице в Валескуре. Но он отнюдь не собирался ехать обратно в одиночестве. И это было оскорбительно для меня: было ясно, что мне предназначаются те же россказни, что и его жене.
Забыть об этой надоедливой дамочке, постоянно сетующей, что у ее мужчин не хватает смелости убить дракона, что способны убивать драконов только телефонные короли, нефтяные короли, чемпионы по боксу да пахнущие лошадьми генералы, все те, на кого я и смотреть бы не стала.
Прибить ковер в холле.
Купить любимые отцовские сигареты.
Привести в порядок дом.
И относительно драконов…
Так или иначе, я всегда остаюсь без проводника на полпути к вершине горы. Он превращается в моего ребенка. Даже отец.
Не думаю, что я ищу мужчину, а не Бога. Пустота, которую я начинаю ощущать, вероятно, и есть отсутствие Бога. Я призывала к себе отца, советчика, вождя, защитника, друга, возлюбленного, но я упустила нечто: это должен быть Бог. Но Бог живой, а не абстракция, воплотившийся Бог, сильный, с жадными крепкими руками и небесполый.