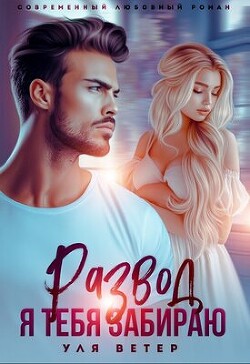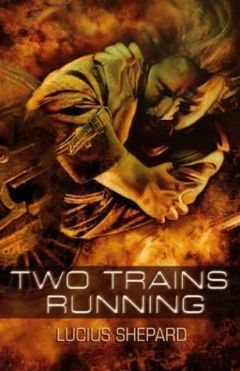Чёрный полдень (СИ) - Тихая Юля
— И ты ведь старик, — вспомнила я и устало прикрыла глаза. — Тебе сколько, получается? Ты хоть помладше, скажем, Огица?
— Постарше. Немного.
— То есть, лет триста. Как только песок не сыплется…
— Ну, если вычесть всё то время, что я спал…
— Не триста же лет.
— Почему? Ну, двести пятьдесят. Думаю, если считать только бодрствование, мне… ну, скажем, тридцать пять, сорок, может быть. Ребёнок по лунным меркам!
Я вяло усмехнулась. А потом меня укололо, и даже в твёрдых мужских объятиях стало зябко, как на осеннем ветру.
— То есть… после проклятия… ты и правда просыпаешься — всего на несколько дней? И потом сразу… Ты поэтому Спящий? Я была в музее, и там… Получается, ты взмахнёшь этим своим мечом… и уснёшь?
— Да.
— Но это ужасно.
Дезире пожал плечами.
— Я не хочу, чтобы ты засыпал, — получилось жалко и глупо. — Это… нечестно.
Он снова пожал плечами. Он будто окаменел, побледнел, застыл. Каменный рыцарь, а не живой человек, — хотя сердце его, я слышала, билось.
Я чувствовала себя ребёнком, которому подарили волшебную музыкальную шкатулку, а потом, хохоча, грохнули её в пол и растоптали.
Он был не мой, конечно. Я придумала сама, будто что-то из этого может быть моим, — но в моей дороге не было того написано. С самого начала это был безнадёжный, бессмысленный роман: я знала, что он, воин Луны, уйдёт вершить свои великие дела, а я останусь выкорчёвывать его из кровоточащего сердца.
Он не мой, да и я — не его. Я ведь встречу свою пару; оракул видела это. И пусть я хотела любить его всегда, теперь нельзя было не подумать: а что, если он окажется плох? Может быть, он дурак, или грубиян, или, хуже того, преступник? Да даже если просто — не чистит зубы! Как я смогу любить его, если в моей жизни был…
Я захлопнула игольницу и отложила её в сторону, кинула штаны куда-то в сторону стула. И улеглась по-другому, свернулась на боку, носом в мужской подмышке, ноги перекинуты через колено Дезире.
Нужно признать: я была потеряна с того самого момента, как поцеловала его. Будто не человека целовала и не лунного, а собственную смерть, милостивую, как в старых сказках.
— Я не хочу, чтобы ты засыпал, — повторила я. — Давай придумаем что-нибудь. Не может быть, чтобы ничего нельзя было придумать. Ты же сам говорил мне сто раз, что всегда…
— Хорошо, — легко согласился Дезире, но я чувствовала: мыслями он где-то далеко. — Давай придумаем.
— Давай.
Как назло, ничего не придумывалось. Голова была пустая-пустая, из неё все мысли высосало водоворотом пустых переживаний и отчаянной, сумасшедшей надеждой, что всё как-нибудь может быть хорошо.
Что вообще можно сделать — с проклятием? Их же не бывает, этих проклятий…
День был такой длинный, что его не получилось охватить сознанием: оно всё рассыпалось на мелкие детали, и они путались, бликовали, отражались, складывались как в калейдоскопе в нелепую картинку, так не похожую на правду. А сердце под моим ухом билось гулко и ровно.
Дезире приобнимал меня одной рукой, мягко, уверенно. На несколько дней или даже часов — он был мой, по-настоящему мой, мы были вдвоём в сгущающейся темноте крошечной наёмной комнатки, и страшного мира вокруг почти не существовало.
Я прищурилась, потянулась, выгнулась, а потом аккуратно прикусила его ухо.
Синие глаза сперва расширились, потом потемнели, а потом загорелись ярче, — я отслеживала эти изменения с робким воодушевлением. Дезире обхватил меня покрепче, подтянул к себе, поцеловал глубоко, значимо.
Поцелуй пьянил. Он пах дождём и весной, и надеждой, и будущим, и чем-то отчаянно невероятным и невозможным и потому особенно прекрасным. Я упивалась его губами и острыми, до самых костей пронизывающими прикосновениями. Он был везде: колено за моей спиной, пальцы, зарывшиеся в волосы, ладонь на моей ноге, от которой разбегаются мурашки…
В голове бродили эхом отзвуки сложных тем, он не был моей парой, я не была его хме, всё было плохо и ненадолго, а внутри у меня ещё немного саднило, — но кровь как-то очень быстро вскипела так, что стало ясно: если он прямо сейчас что-нибудь не сделает, я, наверное, умру.
Я простонала что-то Дезире в губы и обнаружила себя на нём, прижатая спиной к груди, с призывно разведёнными ногами. Запрокинула голову, заглянула ему в лицо, поёрзала… он трогал меня через платье, я дрожала и плыла, и вечер уступал место густой, тихой ночи, в которой особенно отчётливо звучало тяжёлое, разделённое на двоих дыхание.
— Теперь ты хорошо подумала? — хрипло спросил Дезире.
Я даже не поняла сразу, о чём это. А он смотрел на меня жарко, жадно, не мигая, будто очнувшись от какого-то ужасного сна. И мне отчаянно хотелось быть ближе, поделиться теплом, вернуть его в реальность и не опускать никуда больше.
И я снова потянулась к нему губами.
Не знаю, как я не свернула себе шею: я выгибалась под его руками так, как невозможно делать в здравом уме. Юбка бесстыдно задрана до самой груди, трусы сдвинуты куда-то в сторону, по телу растекалось странное горячее чувство, будто все мышцы одновременно напряжены и расслаблены до предела, и хотелось чего-то ещё, больше и ярче, хотя уже от аккуратных прикосновений пальцев можно потерять сознание, и… ох!
Я конвульсивно вздрогнула, резко свела колени и откинулась назад, тяжело дыша.
Дезире чувственно целовал мою шею, каждое движение — будто крошечный разряд. Я выплывала медленно, вязко из затуманенного оргазмом тепла в крепкие объятия, и так же медленно вспоминала, как работает это странное тело.
Пошевелила вяло пальцами на ноге. Потёрлась щекой о мужское ухо — ну, куда уж достала; и поняла, что разгорячённое, влажное, томное чувство так и тянется к нему, стремится брать и принадлежать, и знает, что Дезире ни за что не откажется.
— Продолжай, — шепнула я.
И стекла по нему куда-то ниже, на прохладные простыни, выскользнула из платья, обняла его за шею крепко-крепко и позволила заслонить меня — хоть от уснувшего солнца, хоть от самой Луны.
Пусть даже всё закончится завтра, — звенело в голове на самой границе сознания, — пусть даже так, у меня есть сегодня. И сегодня, сегодня… сегодня я хочу всё, чтобы потом не о чем было жалеть.
lxv.
— Здравствуй, Меленея, — ровно сказал Дезире, будто вовсе не удивившись.
— Нет! — рявкнула гостья, не успев даже разуться.
— Это не наша Меленея, — подсказала я, поправляя вздыбившийся придверный коврик. — Она утверждает, что просто похожа.
— Я вижу суть, — с сомнением сказал Дезире, — в свете.
Я вздохнула. Он видел суть, а я твёрдо знала, что Става врёт, будто бы имя Меленеи ничего для неё не значит; но какая, в конце концов, разница, если она пришла сюда разговаривать о совершенно других вещах?
— Двигайся давай, — проворчала она и пихнула меня локтём, а потом ревностно следила, как я запираю дверь, и налепила на замок какую-то круглую штучку.
Разумеется, Става не была бы Ставой, если бы, только зайдя в комнату, не начала картинно принюхиваться и многозначительно улыбаться. Мол, знаю я, почему ты позвонила не сразу!.. Всё понятно с тобой, баловалась тут всякими непотребствами!.. Как не стыдно, во имя Полуночи!..
Может быть, ещё вчера мне было бы стыдно. Но к утру в теле поселилось тяжёлое, сытое довольство, как-то по-хорошему ныли все мышцы, а в ухмылочках гостьи мелькало что-то, отчасти похожее на зависть.
Поэтому я плюхнулась на стул и удобно устроила голову на крепком мужском плече.
Какое-то время мы разглядывали друг друга вот так: Дезире меланхолично жевал лаванду, вылавливая её из чайничка, Става по-детски шумно дула в свою кружку, а я щурилась и оценивала морщинки в уголках её глаз. Я всё никак не могла понять, сколько ей всё-таки лет: иногда казалось, что тридцать пять, а иногда — что восемнадцать.
— Так, ну ладно, — наконец, сказала Става, — у меня всё равно нет времени сидеть тут с вами и ждать, пока небо позеленеет! Господин лунный, скажите, вы ведь не из этих?