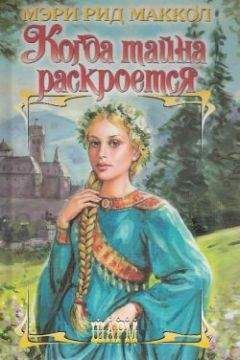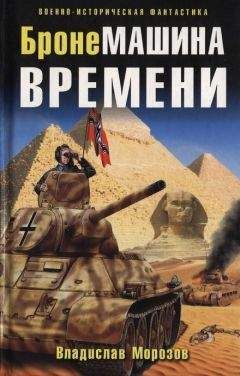Лариса Черногорец - Колыбель колдуньи
— Ой, барыня, матушка! Ой, убили! — резкий вопль вывел Альку из оцепенения. Она обернулась. По широкой деревенской улице шел мужчина лет тридцати пяти. Высокого роста, атлетически сложенный, длинные темные, кудрявые волосы спадали на плечи. На руках он нес безжизненное тело женщины. Её тяжелые светлые косы, волочились по земле, платье было в крови. Мужчина подошел и, уложив бережно тело женщины на землю перед Алькой, прошептал:
— Барыня…вот…убили мою Настасью…
Алька подняла глаза. В паре метров от них стояла плотная толпа крестьян. Лица их не выражали ничего хорошего. Один из мужиков, стянув шапку с головы, шагнул вперед:
— Барыня, матушка! Душегуб — он! Он свою жену сгубил, больше некому! Вот и нож мы у него нашли! — Он развернул тряпицу, из нее выпал окровавленный нож. Альке стало дурно. Земля качнулась под ногами. Словно в бреду со всех сторон посыпались голоса, сливаясь в один рокочущий, визжащий хор:
— Он убийца, матушка! Он!
— Он жену свою зарезал!
— Лаялись, как собаки всю жизнь!
— Детей она ему родить не могла, вот и порешил он её!
— Он давеча кричал на всю деревню, что убьет, вот и убил…
— Да он во хмелю сам не знает что творит!
— Душегуб!
— Не ладили они всю жизнь…
Толпа опутала мужчину веревками, он даже не пытался сопротивляться, словно под гипнозом шел, куда его толкали. Бабы вцеплялись в темную гриву волос и вырывали оттуда клочья, деревенские пацаны кидали в него камни, какой-то мужичонка выкрутил ему запястье и вогнал под ногти иглу. Мужчина застонал. Толпа взревела и понесла его мимо Альки, крестьяне били в печные заслонки, тазы, сковороды, волоча его по улице.
— К реке потащили, — седоватый лакей покачал головой, — утопят как котенка.
— Что значит утопят?!
— Так ведь знают, барыня, что вы под суд отдадите, в тюрьму, в город, а там, пока суд да следствие, а то и выпустят, а им надо чтоб, сразу и сейчас. А не то не успокоятся, покуда либо в избе не спалят, либо не поймают, где потемней, и забьют насмерть. Батюшка ваш такие неприятности враз разрешал…
— Стоять! — Алька заорала, что было сил. Потухший взгляд «душегуба» почему-то все время был у нее перед глазами. Дворня озадачено глядела на неё. — Стоять я сказала! Никому его не трогать!
— Прикажете в «темную»? — Лакей услужливо поклонился и кивком отправил за связанным стоящих рядом дворовых.
Алька хватала ртом воздух, голова шла кругом, она подняла взгляд к небу, облака кружились в какой-то дикой пляске….. Она почему-то вдруг вспомнила о Даньке и вдруг поймала себя на мысли, что не помнит, как выглядит её муж. Совсем не помнит. Помнит, что он у неё есть, что она здесь не по настоящему, а как выглядит Данька? Эх! Был бы здесь Данька… — дальше она ничего не помнила.
* * *Я стоял перед огромным, старинным, чуть пыльным зеркалом и вертел в руках большущие ножницы. В целом мое отражение нисколько меня не смущало, однако вот длинные черные кудри… короткая стрижка мне была больше по душе. Я вытянул длинный, вьющийся локон. Ножницы лязгнули и прядь за прядью, мои виртуальные кудри оказались на полу. Вот теперь я был похож на прежнего меня.
— Что ж вы натворили! Батюшка! — растерянный Анисим смотрел на меня с горечью, — барыня так любила Ваши кудри!
— Барыня?! — Я хохотнул, — думаю, она одобрит мою прическу. Кстати! Вели заложить лошадей! Пора бы и помириться с барыней! Неделя прошла, а я еще ей на глаза не показывался.
Я действительно был счастлив и безмятежен как ребенок. Весенний деревенский воздух мая, наполнявший меня безудержной энергией, был отнюдь не виртуален. По утрам, когда солнце только показывалось из-за вершин деревьев, и крики петухов будили всю округу, я, едва открыв глаза, мчался на реку. Деревенская дорога у самого берега переходила в тропку, и травы окрестных лугов стелились, колышась как шелк под утренним ветерком, переливаясь, и становясь похожими на огромное темно-зеленое море. Вода в реке с буйным характером под ласковым названием Вьюнок, у самой середины которой был порог на пороге, была очень прохладной и чистой. Такой, какой только вообще могла быть вода. Такой я никогда не видел в реальном мире. Её можно было пить, не опасаясь за свое здоровье. Эта речушка, извилистая и бурлящая как горный ручей, у самых берегов была ласковой, как домашняя кошка. Я наслаждался ласкающими меня струями, а потом, выбравшись на берег, усыпанный мелкими камушками, с удовольствием наблюдал, как мужики, пригнав коней из ночного, чистили их, загнав в реку, расчесывали им гривы, заплетая в косы. Потом проснувшиеся деревенские ребятишки с визгом прыгали с мостков в реку, снимая на бегу подштанники, и поднимая вокруг себя тучи брызг. Я загорал под нежарким, пьянящим солнышком, ласковым и неопасным (в отличие от реального светила, под которым без защиты нельзя было оставаться больше минуты) почти до самого полудня, когда лучи становились уже нестерпимо жаркими, и плелся в усадьбу. Там меня ждал вкуснейший и ароматнейший обед, приготовленный умелыми руками искусницы Антонины, — нашей поварихи и по совместительству подруги Анисима. Тот, оттрубив честно на военной службе и поступив на содержание к моему ныне покойному батюшке, по легенде, царскому генералу, и став моим денщиком, а так же нянькой, мамкой и учителем жизни по совместительству, уже лет десять стеснялся сделать ей предложение, трепетно ухаживая и опасаясь обзаводиться семьей. А вдруг, дескать, снова на войну призовут, что тогда супруга будет делать. Я наслаждался вкусом яичницы с непривычно оранжевыми, почти красными желтками с таким ярким, насыщенным ароматом. Объедался пирогами с душистой вишней, заготовленной Антониной загодя, лопал от пуза клубнику, залитую сладчайшим липовым медом, обпивался киселями и квасами различных видов и сортов, и понимал — никакие деньги мира не стоят тех ощущений, которые мне подарил «Сторакс». Я с трудом осознавал, что рано или поздно придется вернуться в свой мир, такой серый и неяркий, на свой пятидесятый этаж к своим компьютерам, продажам, отделам… Я вдыхал каждую минуту этого счастья, осознавая, что это все ненадолго. Вечерами я сидел на крыше усадьбы и с сожалением осознавал, что со мной нет фото и видео, чтобы заснять картину, расстилавшуюся передо мной. Ровные деревенские улицы заканчивались на опушке леса. Из трубы каждого дома высоко в небо поднимался дым. Было похоже на сказку. Там пекли хлеб, варили щи, а на печи нежили свои косточки старики, кувыркались ребятишки, мурлыкали коты. Во все небо раскидывался звездный шатер. Звезды были яркими, крупными, мерцающими и разноцветными. Было жутковато — в каменных джунглях Екатеринодара, под стеклянными куполами высоток жилых кварталов звезд не видел никто и никогда. Их наблюдали из астрологических лабораторий, в которые водили с детства как в кино или в театр. Когда совсем темнело, я спускался вниз, во двор, где Анисим разводил костер, и мы полночи пекли на углях картошку с грибами и салом, и я заслушивался историями, в которых мы, по словам Анисима, все еще считавшего меня потерявшим память, «рубали неприятеля». А несколько дней подряд, когда Анисим с дворней зарезали поросенка, и мне удалось отвоевать у Антонины, забравшей почти всю тушу на солонину, премного нежнейшей вырезки, мы лакомились жаренным на углях мясом, запивая все это ароматнейшим яблочным сидром, которого в подвалах наряду с винами, наливками, водками и настойками было великое множество. Я осознавал, что впадаю в какую-то зависимость, что я уже не хочу возвращаться в реальность, и единственное, чего мне не хватает, это Алькиной улыбки. Я почти не помнил, как выглядела Алька. Портрет на стене с каждым днем становился все более чужим и незнакомым, напоминавшим скорее кого-то другого, но я помнил, что у меня есть жена, тосковал по ней, каждый день обещая, что поеду и привезу её домой, и что мы будем наслаждаться всей этой благодатью вместе.