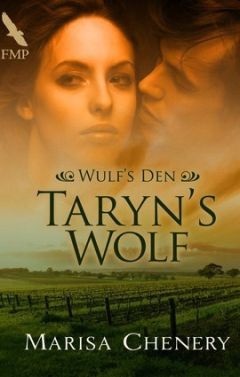Марина Суржевская - Отражение не меня. Сердце Оххарона
Записать что ли на желтом пергаменте и носить с собой? Или выжечь на коже, чтобы точно не забыть?
Шариссар выровнял дыхание с трудом, и стоял, опустив голову, упираясь ладонью в стену шара. Внутри этого пузыря с остывающей водой стало слишком тихо. Настолько, что слышны стекающие по стенкам капли и мокрые хлопки этих странных цветов, когда они ударялись о каменные ступеньки. Я молчала. И ждала… Чего? Не знаю. Казалось, что Шариссар сейчас что–то скажет. Что–то важное. То, что позволит мне… забыть. И поверить…
Он поднял голову, всматриваясь в мое лицо.
— В следующий раз мы сделаем это на кровати.
Я отвернулась, высвободилась из его рук, оттолкнула.
— Надеюсь, следующий раз будет не скоро, — холодно бросила я. — А теперь можно мне остаться одной? Я хочу все–таки смыть с себя… все.
И даже не поворачивая головы поняла, что он снова злится. Впрочем, поворачиваться и не нужно было, потому как Шариссар стремительно отвернулся, отшвырнув ногой плавающие штаны — и так было ясно, что темный вновь разъярился.
Уже на ступеньках он остановился.
— Нам надо подумать, Лея. Обоим. Но если ты сегодня уйдешь, то знай… Я больше не буду тебя звать. Никогда. Я тебе обещаю. Я не хотел… так.
Я же лишь потянулась к цветку, стараясь не шипеть сквозь зубы.
* * *Шариссар.
Конечно, она ушла…
Он вернулся и теперь стоял под дверью собственных покоев, ощущая себя сумасшедшим глупцом. Да он и стал им. Спасибо девушке с разноцветными глазами. Примирить свой внутренний мир, гордость и восприятие себя с фактом его потребности в ком–то другом никак не удавалось. Но и врать себе смысла не было. Он изменился… Словно связь с Леей вернула способность чувствовать. И любить.
Шариссар уперся лбом в дверь.
Он укусил ее, когда в крови Леи был чистый свет Искры. Когда она сама была почти Искрой. Образовал между ними связь, не сдержав свои инстинкты. И теперь они были связаны, его тьма- в ней, ее свет — в нем…
Его кошечка тоже изменилась: раньше она не смогла бы ударить. А теперь сделала это, и какой–то частью своего сознания он любовался ею — дикой, необузданной, яростной, с плетью в руках. Такая, она сводила его с ума, и звериная часть требовала обуздать, подчинить, подмять под себя и заклеймить — немедленно. Наказать ту, что посмела поднять на него плеть.
Он никогда не испытывал столь мощного желания присвоить и завладеть, навсегда…
И одновременно — отдать себя. Всего. Вывернуть наизнанку свою душу ради нее.
Только кому это нужно?
Паладин вздохнул и дернул створку. Довольно. С него хватит. Лея ушла и забрала Незабудку, и он сделает все, чтобы больше не звать ее. Возможно… со временем станет легче. Должно стать. Когда — нибудь.
Интересно, сколько лет ему на это понадобится? Или веков?
А ведь поначалу все казалось простым. Кажется, у него даже был какой–то план… Кажется, он собирался использовать и Лею, и Незабудку в своих целях, и для этого сохранил им обеим жизни. Обманывал себя, что делает это ради каких–то честолюбивых планов…Планы? Какие планы, если он теряет контроль рядом с девушкой с разными глазами? Если задыхается, несет какую–то чушь и теряется, не понимая, как себя вести с ней.
В Обители он просто не смог ее убить, хотя должен был. А когда в его руки попала и Незабудка… Да, он помнил пророчество и то, что дети темной принцессы изменят Оххарон. Но это уже произошло, благодаря угасшей Искре, Пятиземелье будет уничтожено.
Так зачем он возится с этой малышкой? Но ни отпустить Незабудку к королеве, ни причинить вред Лее он не смог…
И сегодня привычно вел себя с девушкой, как всегда — подчиняя, ломая, угрожая. И понимал, что делает что–то не то… Ей нужно другое, возможно, те самые лепестки, воспоминания о которых приводили его в дикую ярость. Он этой романтики не понимал, и не умел. Он желал просто привязать Лею к кровати самой надежной веревкой, приковать цепью, сделать что угодно, чтобы она не ушла, чтобы утолить тот безумный голод, что пожирал паладина. Он ощущал себя помешавшимся, больным, диким и совершенно озверевшим от этой потребности в ней. И дело было не только в физической близости. Она просто стала ему нужна. Просто нужна. Он, кажется, просто не может без нее жить.
Стоило только представить, что она вновь уйдет, и он готов был угрожать, требовать, врать — что угодно, лишь бы не отпустить. Лишь бы осталась с ним, хоть ненадолго, хоть поневоле…
Точно с ума сошел.
И это надо остановить. Однажды он просто убьет ее, в приступе ревности или ярости, станет зверем и разорвет, как уже сделал с другой девушкой. А ведь тогда он даже не любил… Ирантой он был увлечен, но те чувства не шли ни в какое сравнение с той стихией, что поглотила его сейчас. Но Иранту он однажды убил, разозлившись.
Он плохо помнил то, что произошло в тот день. Наверное, Мрак его пожалел, приглушив те воспоминания. Но тот момент, когда он очнулся и увидел свою окровавленную невесту, он запомнил на всю жизнь. И поклялся, что подобного больше никогда не случится.
Его сердце возненавидело тогда с неистовой силой… Себя. То, что не смогли сделать годы рабства, случилось за одну ночь.
Шариссар сжал зубы и толкнул дверь. Усмехнулся, окинул взглядом пустую комнату. Убеждая себя, что должен умыться, заглянул в купальню. Умылся. В комнате все еще витал запах Леи, и это мешало, создавало иллюзию ее присутствия. Паладин скривился и пошел в смежное помещение. Внутри стало больно от глупой надежды. Ведь могла не уйти? Могла поверить ему? Что–то… понять? Почувствовать все то, что он не смог сказать?
Могла?
И замер, привалился к косяку, до боли сжав ладони в кулаки.
Эта комната тоже была пуста.
Лея ушла. И забрала Незабудку.
Он аккуратно закрыл за собой дверь и пошел обратно, тяжело переставляя ноги и вспоминая, что нужно дышать. Просто дышать. Вдох. Выдох…
Вдох.
Кажется, у него были какие–то дела. Ах, да. Война. Он чуть не забыл.
Глупец.
* * *Немного ранее… Лиария.
Лиария стояла на самой высокой башне Оххарона. Отсюда ей был виден город, синие холмы и долина, даже краешек Леса Духов, в который уходили умирать все оххаронцы на протяжении веков, предчувствуя свой смертный час. И если бы она захотела, то смогла бы рассмотреть их лики, что проглядывали в изогнутых корявых стволах деревьев, в переплетении веток и волнении трав. Но Лиария не хотела.
Ее не волновало ничто в этом мире, она видела лишь Сердце.
Следила за его ударами, остановками и пульсацией, за неистовым сиянием, что усиливалось с каждым мгновением. Сердце багровело и мерцало, рвалось с привязи тысячей нитей, словно норовистый конь. Его прежний спокойный и ровный ритм нарушился, сбился, поменялся на неустойчивый и рваный.