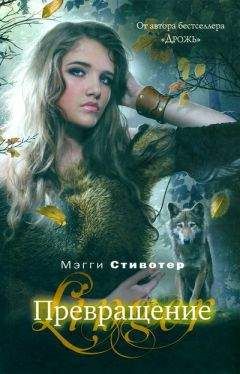Мэгги Стивотер - Жестокие игры
Я краснею, чувствуя, что сотни людей наблюдают за мной, стоящей на плоском камне. Но тем не менее я нахожу в себе силы заговорить:
— В правилах ничего об этом не говорится. Я читала их. Очень внимательно.
Итон смотрит на стоящего рядом мужчину, и тот облизывает губы, прежде чем заговорить.
— Есть правила на бумаге и есть правила, слишком важные для того, чтобы их записывать.
Мне требуется около секунды для понимания того, что именно он подразумевает: несмотря на отсутствие прямого запрета в правилах, они не намерены допускать меня к участию в бегах. Это похоже на то, как мы с Гэйбом играли в детстве: стоило мне приблизиться к победе, как Гэйб тут же менял правила игры.
И так же, как в те далекие годы, от несправедливости этого меня охватывает огнем.
Я говорю:
— Тогда зачем вообще существуют правила на бумаге?
— Некоторые вещи слишком очевидны, чтобы их записывать, — говорит мужчина, стоящий рядом с Итоном.
На нем очень аккуратный костюм-тройка, а вместо куртки — шарф. Я вижу ровный треугольный вырез его жилета, темно-серый на фоне белой рубашки, куда более чистой, чем его лицо.
— Спускайся, — требует Итон.
Тут третий мужчина, стоящий у самого основания камня, у ступеней, по которым я только что поднялась, протягивает ко мне руку, как будто я действительно собираюсь спуститься вниз с его помощью.
Я не двигаюсь с места.
— Для меня это не очевидно.
Итон сначала хмурится, а потом объясняет, медленно складывая вместе слова по мере того, как они приходят ему в голову:
— Женщины — это сам остров, а остров хранит и кормит нас. Это важно. А мужчины — это то, что вколачивает остров в морское дно, не позволяя ему уплыть в море. На песчаном берегу не может быть женщин. Это переворачивает естественный порядок вещей.
— Значит, ты хочешь меня дисквалифицировать из-за какого-то суеверия, — говорю я. — Ты думаешь, из-за того, что я буду участвовать в бегах, корабли начнут садиться на мель?
— Ну, ты уж слишком передергиваешь.
— Значит, ничего такого… Ты просто думаешь, что я не должна участвовать в бегах, и все.
На лице Итона появляется выражение, похожее на выражение лица Гэйба там, в пабе, когда он недоуменно оглядывал толпу, как бы желая убедиться: они тоже видят, как со мной трудно управиться.
Чем дольше я смотрю на Итона, тем сильнее он мне не нравится. Неужели его жена не считает его длинную нижнюю губу отвратительной? Неужели он не может зачесывать волосы как-то иначе, чтобы не слишком обнажать череп? Неужели это обязательно — вот так выпячивать вперед подбородок между словами?
Итон заявляет:
— Не стоит воспринимать это как личное. Ничего подобного.
— Для меня это личное.
Теперь мужчины откровенно раздражены. Они ведь думали, что я просто покорно спущусь с камня, едва услышав их «нет», но я этого не сделала, не пожелала смиренно уйти в историю, а намерена бороться.
— В октябре можно заняться множеством вещей, которые доставят людям радость, и не тратить время на тебя, Кэт Конноли, — сердито говорит Итон. — Ты не должна участвовать в бегах.
Я думаю о Бенджамине Малверне, сидящем в нашей кухне, спрашивающем меня о том, на что мы готовы, что бы спасти наш дом. Я думаю о том, что если я сейчас спущусь с этого камня, у Гэйба не будет причин задерживаться на острове, и как бы ни злилась на него, я не могу допустить, чтобы тот наш разговор стал последним. Я вспоминаю свои ощущения при скачке наперегонки с Шоном Кендриком, сидящим на непредсказуемой водяной лошади.
— У меня есть причины, чтобы участвовать, — резко бросаю я. — Точно так же, как у всех мужчин, поднимавшихся на этот камень. И от того, что я девушка, эти причины не становятся менее вескими.
Ян Прайвит, стоящий всего в нескольких шагах от меня, спрашивает:
— Кэт Конноли, кого ты видишь рядом с собой? Женщину, которая забирает нашу кровь. Женщину, дарующую нам желаемое. Но кровь на этой скале — мужская кровь, кровь многих поколений. И не в том дело, хочешь ты участвовать или нет. Ты здесь чужая. Так что прекрати. Спустись и не веди себя как ребенок.
Да кто такой этот Ян Прайвит, чтобы говорить мне подобное? Это снова напоминает мне, как Гэйб требовал прекратить истерику, которой и близко не было. Я думаю о маме, сидящей верхом на лошади, обучающей меня верховой езде, о маме, словно слившейся с прекрасным животным. Они не вправе говорить, что я чужая. Они могут меня выгнать, что бы я ни говорила, но не вправе называть меня чужой.
— Я следую тем правилам, которые мне дали, — говорю я. — Я не стану подчиняться тому, что нигде не записано.
— Кэт Конноли, — вступает мужчина в жилете. — На нашем пляже никогда не бывало женщин, и ты хочешь, чтобы в этом году все изменилось ради тебя? Да кто ты такая, чтобы этого требовать?
И по какому-то невидимому сигналу мужчина, протягивавший ко мне руку, начинает подниматься по ступеням. Они просто силой стащат меня вниз, если я не захочу уйти сама!
Все кончено.
Я просто поверить не могу, что все кончено.
— Я выскажусь в ее защиту.
Все разом поворачиваются туда, где стоит Шон Кендрик, в стороне от толпы, сложив на груди руки.
— Остров живет храбростью, а не кровью, — говорит Кендрик.
Его лицо повернуто ко мне, но глаза следят за Итоном и его компанией. В тишине, воцарившейся при первых его словах, я слышу, как колотится мое сердце.
Я вижу, что мужчины обдумывают сказанное им. Лица их ничего не выражают; им хочется не обращать на Кендрика внимания, но при этом они лихорадочно соображают, насколько серьезно следует отнестись к словам того, кто так много раз обманывал смерть на бегах.
А Шон Кендрик, как и тогда, в грузовике Томаса Грэттона, ничего больше не говорит. И его молчание вытягивает из мужчин слова, заставляет что-то сказать.
Итон не выдерживает первым.
— И ты хочешь, чтобы ей позволили скакать, — говорит он. — Несмотря ни на что.
— Тут нет никакого «ни на что», — возражает Шон. — Пусть море решит, что правильно, а что — нет.
Следует мучительно долгая пауза.
— Значит, она участвует, — говорит Итон. — Отдай свою кровь, девушка.
Пег Грэттон не ждет, пока я протяну ей руку. Она одним змеиным движением оказывается рядом со мной и разрезает мой палец, но вместо боли я ощущаю как будто ожог, и жар проносится по моей руке до самого плеча. Кровь льется ручьем и падает на скалу.
А у меня снова возникает то чувство, что охватывало меня недавно, когда на плоский камень поднимался Шон Кендрик: мои ноги словно вросли в скалу, я стала частью острова, я вырастаю прямо из него… Ветер треплет мои полосы, срывает с них ленту и бросает пряди мне в лицо. Воздух пахнет океаном, набегающим на берег.