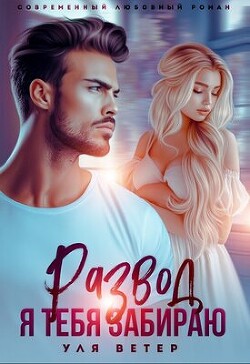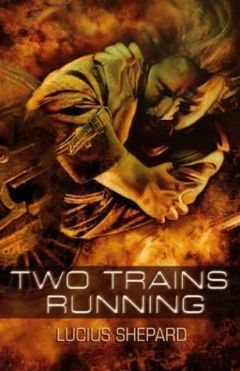Чёрный полдень (СИ) - Тихая Юля
И голову, конечно. Куда же без головы. Касаться её каждый раз было неловко, неудобно, как будто я делала что-то ужасно неприличное, вроде того, чтобы снять одежду со спящего без какой-то уважительной причины; я надеялась только, что Дезире воспримет это как-нибудь… иначе.
Он ведь поймёт, конечно. Он всё поймёт и не станет ругаться. Когда он вернётся, он…
Я одёрнула себя и подтащила сумку к трамвайным дверям.
Остановка называлась «Птичья сопка», и по адресу я представила что-то зелёное и жизнерадостное, и что в голых пока сиреневых кустах здесь уже запели соловьи. Сопка оказалась практически горой, с крутым, недружелюбным каменистым склоном, укреплённым бетонными блоками и металлической сеткой, а над яркими крышами одиноким росчерком кружило что-то крупное, хищное, вроде сокола. Сам район был типовой застройки, и одинаковые двухэтажные дома взбирались на сопку вереницей, различаясь только тем, в какие цвета выкрасили балконы.
Пахло водой и городом: мусорным баком, затопленным подвалом и гретым асфальтом. Ветер нёс откуда-то яркий хлебный дух, в заведении на углу разливали из крана плохонькое пиво, а грузовая машина осторожно ползла наверх по серпантину, выдыхая тёплый серый дым.
Внутри здания гуляло гулкое эхо, а на двери висел тетрадный лист:
Оракул принимает строго по записи.
Я огляделась, но нигде рядом не было часов. Помялась немного на пороге, занесла руку — и всё-таки постучала.
Дверь открылась без скрипа.
— Обожди, — велела мне ведьма. — Вон на стуле сядь и помолчи.
Она была страшна, как сама старуха-смерть с костяной иглой, и логово её было ничем не лучше. Здесь было когда-то швейное производство, но от него остались только пара разболтанных манекенов и худые рулоны плащевых тканей, составленные в углу неаккуратным шалашом; вдоль стены — продавленные стулья, все из разных наборов, на полу — вытертый ковёр, а широкий подоконник был весь заставлен свечами, ни одна из которых не горела.
Оракул была маленькая и сгорбленная, пахла намертво въевшимся в неё чужим страхом, а серые космы топорщились над сухой головой вороньим гнездом. Поверх чёрной хламиды — богатое ожерелье с перьями и камнями, блестящее фальшивым золотом, руки расписаны какими-то знаками, а на лбу вытатуирован синий контур глаза.
Пришла ли я раньше времени — или она просто не сочла нужным поторопиться, — но оракул священнодействовала: на полу перед ней были расставлены какие-то стаканы, банки и чашки, в которых она замешивала маслянисто блестящие жидкости. Вот одна из колб негромко пыхнула, рассыпав вокруг зеленоватые блёстки, и ведьма переложила из чайного блюдца в банку что-то тёмное и склизкое, а потом залила это что-то тремя разными растворами и навинтила крышку.
— Подарок, — хрипло усмехнулась оракул, остро глянув на меня. Серые патлы падали ей на лицо. — Не тебе, глупая. Это особый подарок, только для той, что сможет его оценить.
И она рассмеялась — хрипло и влажно. А затем снова забренчала склянками.
Я так и сидела на стуле, вцепившись ладонями в сидение, пока оракул убирала посуду: в колбы она налила воды из бутылки, взболтала и вылила в горшок полумёртвого чахлого цветка, а блюдце — разбила и ссыпала осколки в ступку. Её работа кисловато пахла чем-то химическим, едким и неприятным, но совсем не пахла магией.
Зато ей пахли свечи, и, когда она зажгла их и расставила по ковру, мне сложно было подойти ближе и не запнуться.
— Ну что же. Ты хотела о чём-то спросить меня, женщина без будущего?
— Без… будущего?
— Это будет твой вопрос?
Мой вопрос. Я пришла сюда, потому что у меня был вопрос, потому что…
— Я ищу друга, — сказала я, неловко облизнув губы. — Я принесла его голову… то есть, не его, в смысле, его, но мраморную… он лунный, понимаете? Мы с ним друзья. Он не умел смотреть никакими другими глазами, мы приехали в Огиц, а потом он пропал, и я переживаю, что он мог заблудиться, что он потерялся где-нибудь, и ему там плохо, в этих других глазах, и, может быть…
— Дай мне руку.
У неё были сухие жёсткие руки. Вся кожа исписана знаками, и даже на длинных жёлтых ногтях — символы. Оракул перевернула мою ладонь, провела ногтём мизинца по линиям, начертила в центре спираль.
Потом она выдохнула — и глаз на её лбу открылся.
— Я вижу его, — сказала оракул, искривив губы. — Его лёгко видеть, белый рыцарь с горящим мечом, проклятый своею судьбой. Я вижу, зачем он проснулся. И я вспомнила… о, теперь я помню тебя, девочка без будущего. Я помню твоё предсказание.
Я тряхнула головой, и серебряные блики от лунного украшения рассыпались по ковру.
— Мой друг. Где он?
— Он просыпается. Ты бы не спрашивала, если бы понимала, что он такое.
— Где он? Это вы видите?
Синий глаз в её лбу был открыт в саму Бездну. Из него на меня смотрел чистый космос, полный слепящих звёзд. Из него смотрело будущее, которого у меня якобы нет, и воля Полуночи, и что-то ещё — великое и непознанное.
— Я вижу его в склепе. Склепе-улитке, скрученном, как побег папоротника, и в нём лампады, свежие цветы и големы. Он лежит в саркофаге из бронзы и золота. Его глаза закрыты. Он ещё не проснулся.
— Это его тело, — торопливо сказала я. — Он не помнит, где его тело, и это… оно в склепе, хорошо, хорошо! А он сам? Где… он сам?
— Он ещё не проснулся, — повторила оракул. Руки, которыми она держала мою ладонь, казались ледяными.
— Но он… проснётся?
Она усмехнулась и сказала только:
— Я вижу, как он открывает глаза.
Долгое мгновение я думала, что могла бы спросить что-то ещё. Бездна в глубине нарисованного глаза приковывала к себе и манила ответами на тысячи незаданных вопросов, и все они были — на кончиках пальцев, в одном ударе сердца.
Почему это я — без будущего? За что судьбе понадобилось бы проклинать дитя Луны? Что такого он должен сделать? И при чём здесь моё предсказание?
Оракул улыбалась страшной, звериной улыбкой. Она знала ответы; и она видела, кажется, все эти вопросы на дне моего зрачка. Моя ладонь приклеилась к её цепким пальцам, вросла в них, а сама я — окаменела.
И всё равно я сделала шаг назад. И ещё один, и ещё. И моя рука упала вниз, ледяная, онемевшая — и освобождённая.
Оракул пожала плечами. И, будто вовсе забыв о незаданных вопросах, сказала важно:
— А теперь — о цене.
Она широко раскинула руки и покрутилась вокруг себя, будто призывая оценить фигуру, — хотя за чёрным полотнищем её хламиды ничего нельзя было разглядеть.
— Да, — я засуетилась, вынула из сумки несессер, нашарила в кармане мерную ленту. — Что бы вы хотели, чтобы я для вас сшила?
Старуха хрипло рассмеялась и улыбнулась широко:
— Саван.
— Са… саван?..
— Саван, — кивнула она и причмокнула. — По обычаю Леса.
— Но разве их… шьют? Может быть, это по-разному в провинциях… у нас покойника раздевают и заворачивают в полотно, это ведь только края подметать и шнурок… шнурок сплести можно и выварить в травах…
Оракул пожала плечами:
— Ну, пусть.
— Ещё иногда карман делают, — вспомнила я. — На груди, и в него кладут что-то личное. И можно вышивку… если вы хотите. А какого размера?..
Старуха снова раскинула руки. Перья в её ожерелье легонько шелестели.
— Этот саван… его шить… на вас?
— Ну, а на кого же ещё!
Я сглотнула и кивнула. Расправила мерную ленту, подошла ближе и, пересилив себя, замерила ширину плеч, обхват груди и рост. Что ещё из мерок нужно? Там и строить-то нечего, саван — это же… прямоугольник.
— Я сделаю карман, — решила я, — для перьев. Возьму небелёный лён и поставлю печати красным и чёрным, как на ваших плакатах. И кручёный шнур. Вам сюда принести? И… когда?
— Никуда не неси, — безразлично сказала оракул. — Главное, сшей до первой весенней грозы.
— А… когда она будет? Уже ведь… весна.
Она знала все ответы, — так было сказано на плакатах, и так говорили в Кланах, переходя на неловкий шёпот. Оракул знает всё и обо всех, и никогда не ошибается. Что стоит всемогущей предсказательнице, глаза которой открыты в самую Бездну, сказать, когда будет гроза?