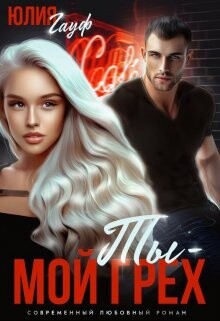Баллада о неудачниках (СИ) - Стешенко Юлия
— Сэр Марк! Милостивец вы наш! Оборони-и-итель! — эхом раскатилось по коридору. Я напряг мышцы, противясь позорному желанию втянуть голову в плечи. Ну когда ж это кончится? Господи, я что, много грешил? За что?!
— Не пускай эту блаженную, — махнул я Тобиасу. Начальник стражи не должен отвлекаться на всякую хрень. Что там у этой бабки было? Лиса вроде бы... Или крысы яйца пожрали? Какая-то вот такая дрянь.
— Сэр Ма-а-арк! Не пущают меня! Скажите им, сэр Ма-а-арк!
Да пропади ты пропадом, старая карга!
Она ведь караулить будет. Знаю я таких. Притаится за углом, а потом выскочит из засады. От эдаких вот старушек копьем не отмахаешься.
Ей бы лису свою с таким же рвением ловить, как меня. Давно бы извела животину. Но нет, зачем изводить лису, когда можно изводить сэра Марка? Это же намного увлекательнее.
— Сэр Ма-а-арк! Милости-и-ивец!
Вопли удалялись, и я блаженно выдохнул, откинувшись на спинку кресла. До вечера отсюда не выйду. Не будет же эта старая карга весь день в засаде сидеть? Хозяйство, как-никак. Кур пересчитывать надо. Оставшихся.
— Через стены ходи-и-и-ить! Собаку зажра-а-а-л!
Я выпрямился так, будто меня сзади пнули. А если не врет? Если не лиса?
— Тобиас! Тобиас!!!
— Чего, милорд? — донеслось уже с улицы.
— Тащи эту дуру сюда! Пускай рассказывает!
В коридоре раздался бодрый топот. Расхристанная бабка победительно влетела в комнату, как авангард конницы — в захваченный город. Тобиас вошел за ней. Шлем на нем сидел криво, одно ухо подозрительно покраснело.
— Сэр Марк, он меня не пущал! Я ему говорю — меня милорд ждет, к милорду я, а он на улицу тянет и не пущает, я говорю — не слушает, волоком волочет, вы ему скажите, милорд, я порядочная женщина, что ж меня так хватать и волочь, в мои годы уважение…
— Цыц! — рявкнул я и врезал кулаком по столу. Кубок подпрыгнул и упал, тонкая струйка вина потекла в щель между досками. Бабка охнула и захлопнула рот.
— Суро-о-ов… Суров милостивец наш! — восхищенно простонала она, прижимая к груди сухонькие ручки.
— Молчать! По делу говори, мне болтовню слушать некогда.
— По делу, по делу, милорд, как же не по делу. Вы до наших забот снизошли, вы нас призрели, мы же с благодарностью, мы помощи просим…
Боже. Дай сил не убить. Боже.
Бабка тарахтела, как раздолбанная телега на бездорожье, голос у нее был громким и пронзительным, отчего казалось, что в висок мне ввинчивают тонкое и острое сверло.
— Толком говори, глупая курица!
— Так говорю же! Курицы! Как есть глупые, ночью вообще не соображают. Оно и лезет в сарай, а они на жердях сидят, ваша милость, а оно лезет, и норы нету, через стену лезет, ваша милость, я следы-то поглядела, со двора идут — и в стену, а потом в курятнике, на курином-то говне хорошо видно, я гляжу, из стены следы, и до жердей, а там куры, оно им головы и откусывает, но больше одной не берет, меру знает, одну возьмет и гложет, а как к утру не догложет, так бросает… — воздух в бабке наконец кончился, и она остановилась, со свистом вдохнула, будто кузнец меха растянул. И не лопнет ведь. А жаль. — Я давеча собаку туда запустила на ночь, в курятник-то, как вы говорили, как с лисой. А оно песика-то зажрало. Ночью слышу — лай сначала, а потом как завизжит, жалостно так, а потом и визжать перестало. Я из дому выйти-то побоялась, никак и меня зажрет, мелкое оно, но злое, а мне много ли надо, я женщина старая, я дверь-то подперла, так с кочергой до утра и просидела, а утром сразу к вам. Ребеночек у меня, милорд, внучек, а зять еще той весной пропал, ушел с обозом — и не вернулся, то ли злые люди убили, то ли жизнь где лучшую нашел, а дочка захворала, да и померла зимой, а внучек остался, вот я и боюсь, ежели что со мной случится — куда ему, кому дитя-то чужое надобно? А ежели ребенка оно зажрет? Собаку зажрало, а у собаки зубы, а ребенка-то нетути…
— Хватит! Я тебя понял. Как оно выглядит?
— Так бурое же, — вылупилась на меня бабка.
Дерьмо тоже бурое.
— Конкретнее. Какого размера, на что похоже.
— На зверя похож. Вот такой вот, — бабка поводила рукой чуть выше колена.
— На четырех ногах?
— А на скольки ж? Где ж вы зверя о шести ногах-то видели?
— Какая шерсть? Гладкая? Лохматая? Рога, клыки, хвост. Все рассказывай.
— Лысый он. И лохматый. Туточки, на животе и на лапах, лысый и бурый. А на спине шерсть, и на голове лохмы. Глазища желтые, круглые. Я как-то до ветру ночью вышла — а оно сидит у колодца и пялится. Страсть. Рогов нету. Чай, не олень и не дьявол, чтобы с рогами ходить. И хвоста нет. Так, обрубочек из жопки торчит, ровно как у ежа. И когтищи. Весь сарай подрал, поганец, когтями этими.
— Ясно. Ступай домой.
— А когда стражу ждать?
— Зачем тебе стража?
— Так жруна этого изловить-то. Туда много народу надо, один никак не справится. Зверь-то через стены ходит, одному за ним не угнаться.
— Я приму меры. Ступай. Скажи Тобиасу, где ты живешь. Завтра тебе окажут помощь.
У Тобиаса глаза выпучились, как у жабы, которой в задницу соломинку вставили и подули. Ничего, не переломится. А зверь интересный. Непростой зверь. Если, конечно, бабка не спятила. Но это я проверю. Я знаю, как.
Дверь я толкнул с некоторой опаской. Вилл клялась, что охранный амулет меня пропустит, но тогда она была рядом. А сейчас — нет. Как эта дрянь будет работать без хозяйки, я понятия не имел. Подумав, я тыкнул в порог мечом. Ничего не произошло. Я тыкнул дальше, провел на полу длинную черту. Снова ничего. Убедившись, что нарушителя не разбросает по комнате, как дракона, я отважился и шагнул.
Дом встретил меня тишиной. Ни голосов, ни звона посуды, ни торопливых, неровных шагов… Я медленно пошел по коридору, заглядывая зачем-то в комнаты. На кухне так и осталась лежать горкой неубранная в шкаф посуда. В каминной валялась на столе забытая расческа. Подобрав брошенный на пол замшевый ботинок, я вошел в спальню, сдвинул в сторону сваленную впопыхах груду одежды и сел на кровать. Лучи солнца падали на стол, радужными бликами вспыхивали в колдовских побрякушках.
Если Вилл не вернется, все так и будет лежать. Плошки, амулеты, тряпье... Покроются пылью, потускнеют.
Тихо.
Совсем тихо.
Даже время не движется.
Ужас накатил волной, мутной, как озерная вода. Мне стало трудно дышать. Сердце гулко ухало в груди, тишина выла и давила на уши. Так было, когда умер дед. Его обмыли и оставили на столе, и я зашел в комнату, мне было любопытно и немного страшно — совсем немного. Я стоял и смотрел на стол, на лежащее на нем длинное, сухое тело, обмякшее и безвольное. Тогда я вдруг понял, что я в комнате один. Совсем один. Тот, кто лежит на столе — это уже не мой дед. Просто чужая, мертвая оболочка, бессмысленная, как скорлупа выеденного яйца. Тогда эта очевидная мысль повергла меня в панику. Зажмурившись, чтобы не видеть тело, я на ощупь выскочил из комнаты и выбежал на залитый солнцем теплый двор. Там говорили люди, голготали гуси, вдалеке мычала корова — и эти звуки стерли плещущуюся во мне тишину, размыли ее, унося прочь. Через десять минут я уже играл в вышибалы с мальчишками. Детская глупость, конечно. Но большего страха я в жизни не испытывал. Ни под Муассаком, ни под Тулузой, ни когда с петлей на шее стоял.
Помотав головой, я вытер о штаны вспотевшие ладони. Плохо это. Нельзя так. Нельзя. О живом, как о мертвом не думают. Так и накликать недолго.
К дьяволу.
Вот вернется Вилл — и все уберет. И посуду, и расческу, и ботинок этот дурацкий.
А глупостей думать не надо.
Сидеть неподвижно было невыносимо, и я, поднявшись, прошелся по комнате, остановившись перед книжной полкой. Одни названия я даже прочесть не смог, в других буквы были знакомы, но слова из них получались непонятные, такое и спьяну не выговоришь. Нашлось и несколько нормальных, на английском. Вытащив наугад книгу, я раскрыл ее в середине, подивишись удивительно крохотным и ровным буквам. Писарь над ними, наверное, вечность корпел.